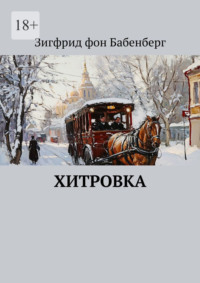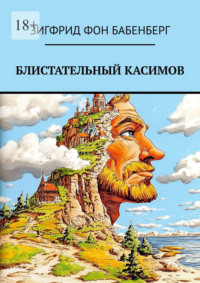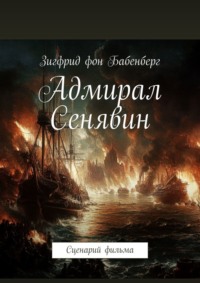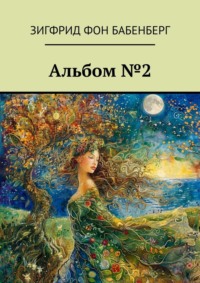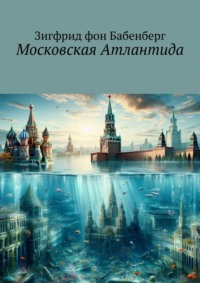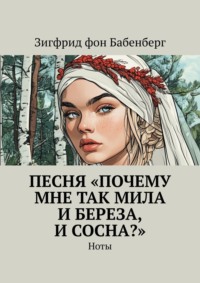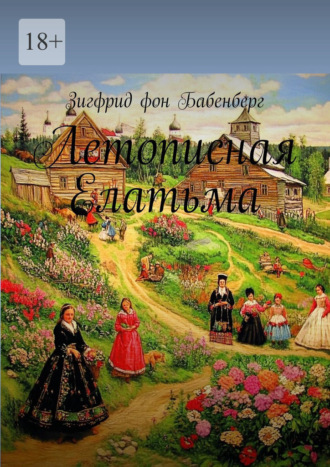
Полная версия
Летописная Елатьма
Географический Якорь: Назвала ее важным ориентиром («подъ городомъ Елатмою») для описания устья малой Унжи.
Царское Признание: Попасть в эту книгу – великая честь! Значит, Елатьма в те поры – не забытая богом деревушка, а значимый град на карте государства! Как веха на столбовой дороге, мимо не проедешь!
Мерило Доверия: Расстояния даны не с потолка, а как Истина, проверенная шагами гонцов да вёслами лоцманов!
Так что, когда кто скажет: «Да была ли Елатьма важна?» – ткни его носом в сию строку! Мол, читай, неуч: «Городъ Елатма… отъ Касимова 20 верстъ»! Царские дьяки не для красоты писали, а для дела государева! Елатьма – точка на царской карте, узел на речной дороге, твердыня над Окой! Как есть в Книге – так тому и быть! Не прибавить, не убавить!
1544-й. Три Богатыря
или Три Тени на Завалинке
Год урожайный на воевод! Очередь в приказную избу – как в баню по субботам!
Фёдор Иваныч Одоевский (Первый воевода): Его лозунг: «Не сидится на печи! На Казань надо!»
Собрал ватагу удальцов, тряхнул стариной – и марш на восток. Итог похода: «Казань цела? Ну, хоть шапку басурманскую привезли – в казну положить. Главное – отметился!»
Иван Григорьевич Очин-Плещеев (Второй воевода, январь): Вступил в должность под вой вьюги. «Михайлыч, ты от печки не оттаивал? Я в январе – как в проруби! Где тут дров? Где горячительного? Казань? Пусть Федька её воюет, а я – обмороженные уши лечить буду!»
Алексей Данилыч Басманов (Третий воевода): Тихий, как удав перед прыжком. Присматривался: «Ишь, Федька на войну сбежал, Ивашка – в сенях дрожит… А я тут порядок наведу! Кто дрова не рубит? Кто подати платить ленится? Записываю в свой особый „синодик“!» (Позже он станет грозой опричнины, а пока – только нарабатывал навык устрашения на елатомских недоимщиках).
1550-й. Князь-Сокол. Константин Иваныч Курлятев-Оболенский!
Воевода – княжеской крови!
Въехал в Елатьму, как на парад: «Где тут ногайские мурзы шалят? Покажите дорогу! Мне Касимовский князь жаловался!»
Через год (1551-й) он и Семён Шереметев устроят ногайцам такой «концерт» на Оке, что те запомнят елатомские берега, как место своей грандиозной оплеухи от Руси! «Курлятев? Этот не просто воевода – он как сокол на мышь!» – шептались в Орде.
1665-й. Ветеран Перемен. Фома Константиныч Беклемишев.
Приехал в Елатьму, когда стрельцы уже не те, да и воеводская должность – не в почете, а в тягость.
Сел на воеводство, огляделся: «И где тут прежняя грозная крепость? Ах, сгнила… И стрельцы? Ах, разбежались… И казна? Ох, пуста… Ладно, хоть чайку попью. Повешу ключ от несуществующей казны на гвоздик – для памяти.» Типичный «сиделец» в смутное межвременье.
Мораль сих воеводских сказов: Елатьма была для них не точкой на карте. Для Одоевского – плацдарм для авантюр. Для Очина-Плещеева – место, где грели кости. Для Басманова – тренировочный поликон для будущих опричных ужасов. Для Курлятева – форпост, с которого били врага. Для Беклемишева – тихая гавань на закате эпохи. А Ока-матушка всех их видела, всех помнила – и всем в конце концов сказала: «Пора и честь знать! Место освобождайте!»
Как говаривали местные остряки: «Воевода что комар – прилетел, тявкнул, кровь попил, да и след простыл. А Елатьма – как берег Оки – всех перестоит!»
От Мурома – пыль да комарье!
Ваше сиятельство! Летом 1636-го года, по пыльной дороге Московского царства, ехал себе важный немец – Адам Олеарий, ученый муж из герцогства Гольштейн. Царю Михаилу Федоровичу посольство вез, да диковинки русские записывал, как купец товар в амбар складывает! А путь его лежал мимо славной Елатьмы. Послушайте, как делу было, с прибаутками да с немецкой аккуратностью!
Тянулся обоз посольский, словно гусеница пестрая. Колеса скрипели на разные голоса, кони фыркали на мошкару злую. Сам Олеарий, в шляпе с пером, с блокнотом в руках, сидел в колымаге и старательно выводил буковки, как паук паутину: «Дорога… ужасная… комары… как пьяные казаки… кусаются без меры…»
Вдруг – показалось на горизонте!
Выглянул Адам из окошка, протер очки от пыли дорожной. На левом берегу Оки, над самой водой, будто грибы после дождя, виднелись крыши да маковка церковная.
– «Mein Gott!» – воскликнул ученый муж. – Что за поселение? Кажется, значительное! – и схватился за перо, как рачительный хозяин за метлу.
Подъехали ближе. Олеарий высунулся, глазом цепким водя:
– «Елатьма… liegt, linker Hand… в трех верстах от реки…» – бормотал он, меряя взглядом расстояние, словно сукно аршином. – «Последняя перед… чем? Ах да, перед ночлегом… большая деревня… sehr groß Dorf…»
Спутник его, русский толмач Степан, усмехнулся в бороду:
– Что, барин немецкий, деревней Елатьму величаешь? – подбоченился. – Деревня, говоришь? Ха! Да тут тебе и крепостные валы видны, пусть и старые! И церковь каменная – не каждая деревня таковую потянет! И посады вдоль берега – шумят, торгуют! Деревня с посадами – это как медведь в телогрейке: и зверь, и одет!
– «Но… но здесь всего триста крестьянских душ записано!» – упрямо тыкнул пером в свои бумаги Олеарий. – «Триста хозяйств! По нашим меркам – крупное село, не более!»
– Эх, Адам Адамыч! – закачал головой Степан. – Ты душ считаешь, а глазом не меряешь! Видишь ты эти дворы? – махнул он рукой на раскинувшиеся избы и огороды. – Да в каждой избе – как в улье: дед, баба, сыновья с женами, дети малые, внучата! А то и холопы дворовые! Триста душ – это мужиков да старших сыновей считали, для подати! А всех ртов – тысяча наберется, не меньше! Не деревня, а грамотный мужик сказал бы – СЕЛО ГЛАВНОЕ! Вотчина солидная!
И чья ж вотчина? А вот чья!
– «Принадлежит… боярину Федору Ивановичу Шереметеву!» – торжественно записал Олеарий. – «Ah, der berühmte Bojar Scheremetew! Знатный род!»
– Во-во! – подтвердил Степан с гордостью, будто сам Шереметеву родня. – Боярин Федор Иванович – фигура! У него не вотчина – царство малое! И Елатьма – жемчужина в его ожерелье! Тут тебе и пашни тучные, и луга заливные, и лес угодный, и Ока-кормилица! Да и людишки тут – не лыком шиты: ремесленники, лоцманы, торговцы! Деревня Шереметева – это тебе не какая-нибудь Кукуево-на-Соплях! Тут порядок, барин! Боярский глаз далеко видит!
Пока они рассуждали, мимо них:
Проплыла баржа с лесом, грузчики на берегу орали, словно на ярмарке: «Давай-давай, раз-два, взяли!»
Пробежал мальчишка с удочками, крича: «Деда, на язе поперло!»
**Потянуло дымком ** – то ли баньку топили, то ли хлеб пекли…
– «Ja, ja…» – задумчиво кивал Олеарий, записывая. – «Большая деревня… 300 душ… боярина Шереметева… живая… шумная… несмотря на комаров и дороги…» Он вздохнул. «Но все же… не город. Город – это стены, ратуша, магистрат…»
– Городом была, Адам Адамыч! – не унимался Степан. – В летописных сводах писана! Крепость тут стояла! Да времена меняются… Теперь вотчина славная, село богатое – и шапку ломать не надо, и подати платить исправно! А шуму-то, жизни-то – хоть отбавляй! Не хуже иного посада!
Тронулся обоз дальше, оставляя Елатьму позади – большую, шумную, боярскую «деревню» на солнечном берегу. А Олеарий дописывал в своем дневнике, да так, чтобы потомки знали: «Послѣдняя – большая деревня, заключающая въ себѣ 300 крестьянъ; принадлежала она боярину Өедору Ивановичу Шереметеву». Точно, как в приказной книге!
А Степан, поглядев назад, пробормотал себе под нос с усмешкой: – Немец глазом остёр, да меряет по-своему. Елатьма-матушка, ты хоть и «деревня» по немецкому счету, да кормилица славная, твердыня над Окой! И пока Шереметевы да им подобные тебя держат, а Ока течёт – тебе цвести да богатеть! Не велик городок, да удал! Не по названию почёт, а по делу да по людям! Ха! Вот тебе и «большая деревня»!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.