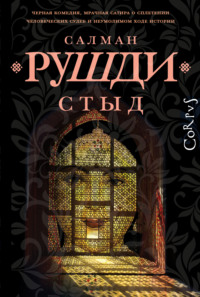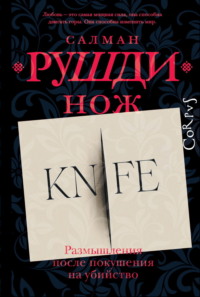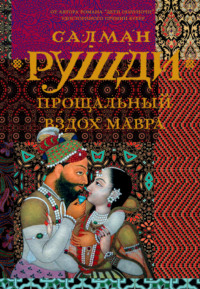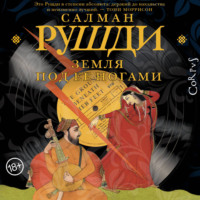Полная версия
Земля под ее ногами
«Самое ужасное, – писала Персис, – что он вообще меня не упомянул, словно меня там не было, словно я никогда не существовала, словно не я привела его туда в день, с которого все началось». В ответ я постарался, как мог, ее утешить. Рассказывая свою историю, Вина и Ормус не одну Персис пытались стереть из памяти. На протяжении большей части своей жизни на публике они предпочитали скрывать свое происхождение, хотели избавиться от прошлого, сбросить его, как старую кожу, и Персис была сброшена вместе со всем остальным; в этом не было, так сказать, ничего личного. Так я написал Персис, хотя в глубине души полагал, что в ее-то случае это как раз могло быть очень личным. Иногда Ормус и Вина казались мне жрецами пред алтарем своей любви, о которой они говорили столь высокопарно. Не бывало еще на свете таких влюбленных – чувства такой глубины и силы недоступны простым смертным… Присутствие другой женщины при встрече богоподобных amants[54] – подробность, которую эти божества предпочли обойти молчанием.
Но Персис существовала, она жива по сей день. Ормуса и Вины больше нет, а Персис, подобно мне, часть того, что еще остается.
Когда в тот день, в магазине грамзаписей, глаза Ормуса и Вины вступили в любовную связь, Персис еще пыталась отстоять свою территорию.
– Слушай, малявка, – прошипела она, – ты не хочешь вернуться в детский сад?
– Уже закончила, бабуля, – ответила Вина и повернулась спиной к наследнице рода Каламанджа, направив все свое внимание на Ормуса.
Отстраненно, как сомнамбула, он ответил на ее вопрос:
– Я назвал его вором, потому что это чистая правда. Это моя песня. Я сочинил ее несколько лет назад. Два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней назад, если хочешь знать.
– Брось, Орми, – не сдавалась Персис Каламанджа. – Эта пластинка вышла всего месяц назад, притом в Америке. Она только-только с корабля.
Но Вина напела другую мелодию, и глаза у Ормуса снова загорелись.
– А эту песню ты откуда знаешь? От кого ты могла услышать то, что существует только в моей голове?
– Может быть, ты и эту написал? – поддразнила его Вина и напела обрывок третьей мелодии. – И эту? И эту?
– Да, все эти песни, – серьезно ответил он. – Я хочу сказать – музыку; и гласные тоже мои. Эти нелепые слова я не мог написать. Песня про синие туфли – что за баквас[55]? Но гласные звуки мои.
– Когда мы поженимся, мистер Ормус Кама, – громко заметила Персис Каламанджа, крепко вцепившись в его руку, – вам придется стать немного благоразумнее.
На этот упрек объект ее привязанности ответил веселым смехом – прямо ей в лицо. Потерпевшая сокрушительное поражение Персис в слезах покинула место своего позора. Процесс изъятия ее из анналов начался.
С первого дня Вина безоговорочно приняла пророческий статус Ормуса. Он с такой неподдельной страстностью утверждал, что является подлинным автором нескольких знаменитых в то время песен, что у нее просто не было выбора. «Или он говорил правду, – рассказывала она мне много лет спустя, – или был душевнобольным; принимая во внимание мою тогдашнюю бомбейскую жизнь у хищника дядюшки Пилу, только сумасшедшего бойфренда мне и не хватало». После бегства Персис в воздухе повисла неловкая пауза, а затем Вина, чтобы удержать внимание мужчины, с которым внутренне уже связала свою жизнь, спросила, знает ли он, откуда взялась музыка.
Давным-давно крылатый змей Кетцалькоатль правил воздухом и водой, в то время как землей правил бог войны. То были славные дни, полные битв и всяческих демонстраций силы, но музыки не было, а им до смерти хотелось услышать приличную мелодию. Бог войны оказался в этой ситуации бессилен, но крылатый змей знал, что делать. Он полетел к дому Солнца, который был одновременно и домом музыки. В пути он миновал множество планет, и со всех доносились звуки музыки, но музыкантов нигде не попадалось. Наконец он прибыл к дому Солнца, где жили музыканты. Гнев Солнца, чей покой он нарушил, оказался ужасен, но Кетцалькоатль не испугался и вызвал сильные бури, которыми повелевал. Они были такими устрашающими, что даже дом Солнца затрясся, а перепуганные музыканты кинулись кто куда. Некоторые из них упали на Землю, и так, благодаря крылатому змею, у нас появилась музыка.
– Откуда эта история? – спросил Ормус. Он проглотил наживку.
– Из Мексики, – ответила Вина. Она подошла к нему и бесцеремонно взяла его руку в свою. – Я крылатый змей, а это – дом Солнца. А ты… ты музыка.
Ормус Кама уставился на свою руку, лежащую в ее руке; он почувствовал, как что-то его отпустило, – может быть, исчезла тень подушки, которой брат задушил когда-то его голос.
– А хочешь, – спросил он, сам удивляясь своему вопросу, – я как-нибудь на днях тебе спою?
Что такое «культура»? Загляните в словарь. «Совокупность жизнеспособных микроорганизмов, выращенных в определенной питательной среде». Корчи бактерий на стеклянной пластинке; лабораторный эксперимент, называющий себя обществом. Большинство из нас, приспособленцев, смиряется с существованием на пластинке; мы даже согласны испытывать гордость за эту «культуру». Как рабы, голосующие за рабство, или мозги, голосующие за лоботомию, мы преклоняем колени перед богом всех слабоумных микроорганизмов и молимся о том, чтобы слиться с массой таких же, как мы, или погибнуть, или подвергнуться научному эксперименту; мы клянемся в своей покорности. Но если Вина и Ормус и были бактериями, они оказались парой таких микробов, которые не пожелали беспрекословно подчиняться. Их история может быть прочитана как рассказ о двух личностях индивидуального пошива, выполненных самими заказчиками. Мы – все остальные – снимаем свои индивидуальности с вешалки: свою религию, язык, предубеждения, поведение, труды; но Вина и Ормус согласны были только на, если можно так выразиться, автокутюр.
И музыка, популярная музыка, была тем ключом, что отпирал двери в волшебные страны.
В Индии часто приходится слышать, что такая музыка как раз и является одним из вирусов, которыми всемогущий Запад заразил Восток, одним из главных орудий культурного империализма, которому все здравомыслящие люди должны неустанно сопротивляться. К чему тогда петь дифирамбы таким изменникам культуры, как Ормус Кама, который предал свои корни и посвятил свою презренную жизнь тому, чтобы забивать уши наших детей американским мусором? К чему так возвышать низкую культуру и превозносить низменные порывы? К чему защищать порок так, словно это добродетель?
Все это шумный протест порабощенных микроорганизмов, которые извиваются и шипят, защищая незыблемость священной своей родины – стеклянной лабораторной пластинки.
Ормус и Вина всегда придерживались одной версии, не отступив от нее ни разу: что гений Ормуса Камы проявил себя не в ответ и не в подражание Америке, что его ранняя музыка – музыка, звучавшая у него в голове все его молчаливое детство, – была не западной, если, конечно, не считать, что Запад с самого начала присутствовал в Бомбее, грязном старом Бомбее, где Запад, Восток, Север и Юг всегда были перемешаны, как буквы в шифровке, как яйца в болтунье, и западное было законным наследством Ормуса, его неотъемлемым бомбейским наследством.
Довольно-таки смелое заявление: что музыка посетила Ормуса до того, как она явилась впервые в студию «Сан рекордз», или в Брил-билдинг, или Кэверн-клаб. Что он первым ее услышал. Рок-музыка, музыка города, музыка настоящего, для которой не существовало границ, равно принадлежавшая всем, но больше всего моему поколению, потому что она родилась, когда мы были детьми, взрослела в наши отроческие годы и достигла зрелости одновременно с нами, вместе с нами обзавелась брюшком и лысиной, – эта самая музыка, если им верить, была впервые явлена индийскому мальчику, юноше-парсу по имени Ормус Кама, услышавшему все песни на два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней раньше всех остальных. Так что, согласно Ормусу и Вине, их исторической версии, их альтернативной реальности, мы, бомбейцы, можем считать эту музыку нашей, рожденной в Бомбее, подобно Ормусу и мне, – не «импортным», а произведенным в Индии товаром, и, быть может, это иностранцы ее у нас украли.
Два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней, кстати говоря, в сумме дают (если это не високосный год) тысяча и одну ночь. Тысяча девятьсот пятьдесят шестой был, однако, високосным годом. Посчитайте сами. Такие натянутые параллели не всегда срабатывают.
Как такое могло произойти?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, придется подождать, пока Ормус Кама вернется домой из магазина грамзаписей, ошеломленный сразу двумя событиями (знакомство с этой нимфеткой, Виной Апсарой, и обнаруженная им «кража» его тайной музыки, совершенная Джессом Паркером в компании с «Метеоре» Джека Хейли и другими носящими челки и прищелкивающими пальцами янки). Сначала Ормус должен отчитаться перед матерью, у которой сейчас только сватовство на уме и которой не терпится узнать, как у него дела с «дорогой Персис, такой способной девочкой, наделенной множеством достоинств, такой послушной, такой образованной, вдобавок очень хорошенькой, ты так не считаешь, Ормус, милый?». В ответ на этот несколько отвлеченный панегирик Ормус лишь пожмет плечами. Затем ему нужно лениво пройти через столовую мимо дряхлого слуги Шва – тот притворяется, будто полирует стоящий на буфете серебряный канделябр, – клептомана, который достался его отцу от уехавшего Уильяма Месволда и в честь бессмертного Бича лорда Эмсворта[56] носит высокий титул «дворецкого» и очень-очень постепенно, на протяжении многих лет, крадет семейное столовое серебро. (Пропажи были столь незначительными и редкими, что леди Спента, руководимая ангелом Благой Помысел, не говоря уж об ангеле Святая Простота, приписывала их своей небрежности. Этот канделябр – едва ли не последнее, что осталось от серебряных предметов, но, хотя вор прекрасно известен Ормусу, он никогда не скажет об этом родителям из-за презрения к материальной собственности.) И вот – наконец-то! – Ормус может войти – входит в свою комнату, вытягивается на кровати, смотрит в потолок на медленно кружащийся вентилятор и погружается – вот оно! – в грезы. На него падает тень. Это знаменитая «Кама обскура», семейное проклятие самопогружения, которое только он один научился использовать в собственных целях, обратив в дар.
Есть один фокус, который он умеет проделывать со своим сознанием. Если пристально смотреть на вентилятор, то можно заставить комнату перевернуться вверх ногами, так что кажется, будто лежишь на потолке и смотришь вниз на вентилятор, который теперь растет, как металлический цветок, из пола. Потом можно изменить масштаб предметов, так что вентилятор покажется огромным, а себя вообразить под ним. Где он? (Глаза у него закрыты, и кажется, что лиловое родимое пятно на левом веке пульсирует.) Он в оазисе, среди песков, он лежит, вытянувшись, в тени высокой финиковой пальмы, крона которой слегка покачивается под теплым ветерком. Теперь, все глубже погружаясь в воображаемый мир, он населяет эту пустыню: огромные самолеты приземляются на взлетную полосу карниза для штор, и из них вываливается вся шумная жизнь воображаемой метрополии: дороги, высотные здания, такси, вооруженные полицейские, гангстеры, простофили, пианисты с прилипшей к губе сигаретой, сочиняющие песни для чужих жен, игроки в покер, залы со звездами шоу-бизнеса, рулетки, швыряющие деньги лесорубы, шлюхи, откладывающие деньги на магазинчик готовой одежды там, дома.
Он уже не в оазисе, он в городе слепящих огней, стоит перед зданием, похожим на театр или казино или еще на какой-нибудь храм удовольствий. Он ныряет внутрь и сразу понимает, кого здесь ищет. Он слышит голос брата, слабо различимый, но не очень далекий. Мертвый брат-близнец поет для него, но он не может разобрать слов. «Гайомарт, куда ты? – зовет Ормус. – Гайо, я здесь, подожди меня!» В здании полно людей, все они куда-то спешат, тратят слишком много денег, целуют друг друга чересчур похотливо, едят чересчур жадно, так что подлива и кетчуп стекают по подбородку, затевают драки из-за пустяков, смеются слишком громко и слишком горько плачут. В конце комнаты – гигантский серебряный экран, заливающий все огромное помещение мерцающим светом. Время от времени люди в комнате смотрят на него с тоской, словно обращаясь к богу, но потом с сожалением качают головой и продолжают предаваться разгулу, исполненному странной грусти. Во всех них есть некая незавершенность, словно они не совсем настоящие. Солдаты хвастают перед невестами своими подвигами. Роскошная декольтированная блондинка входит в фонтан прямо в вечернем платье. В одном углу Смерть играет в шахматы с рыцарем, возвращающимся из крестовых походов, а в другом углу японский самурай чешется, но не может дотянуться до места, где у него зудит. На улице красивая блондинка с короткой стрижкой продает «Геральд трибьюн».
Как темная тень, отделившаяся от своего владельца, Гайомарт Кама скользит между более яркими тенями, напевая свою ускользающую песню. Ормус следует за ним сквозь толпу; путь ему преграждают лысый полицейский, сосущий леденец, два придурковатых индийских клоуна, говорящие в рифму, и главарь банды с ватными валиками за щеками. На мгновение они буквально впиваются в него глазами, словно спрашивая: «Не ты ли тот самый, кто выведет нас из этого страшного места, этой приемной, этого чистилища, и даст нам ключ от серебряного экрана?» Но сразу понимают, что он им не поможет, и возвращаются к своим танцам зомби.
Гайомарт проскальзывает в дверь на другом конце зала, и Ормус кидается за ним. Преследование продолжается; они бегут вниз по лестницам, теряющим первоначальную роскошь, по комнатам, все более мрачным. Из зала несозданных кино- и телеперсонажей – в более скромную комнату несыгранных ролей, еще более безвкусный парламентский зал будущих предательств; затем следуют бар ненаписанных книг, задний двор несовершенных преступлений и, наконец, – узкие железные ступени, ведущие в полную темноту. Ормус знает, что брат-близнец ждет его там, внизу, но спускаться туда ему страшно.
Сидя на верхней ступеньке своего мира грез, вглядываясь в темноту так напряженно, что лиловое пятно на веке начинает светиться, Ормус Кама, пытаясь найти утраченного единоутробного брата, свое теневое «я» где-то там, во тьме, слышит, как Гайо поет свои песни. Он прекрасный, даже выдающийся певец, с легкостью берущий высокие ноты, с поразительным диапазоном, свободными и изощренными модуляциями. Но он слишком далеко; Ормус не может разобрать слов, одни только гласные.
Звуки без всякого смысла. Бессмыслица.
Eck-eck eye ау-ее eck ее, аск-еуе-аск er ay оо eck, eye oock er aw ow oh-ee ее, oo… ah-ay oh-eck…
Два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней спустя он выскочил из кабинки в бомбейском магазине грамзаписей, услышав эти самые звуки из уст последнего американского чуда, звезды, засиявшей на небосклоне новой музыки, – выскочил ошарашенный, и перед его внутренним взором стояли лица теней, что повстречались ему в подземном мире, – грусть и отчаяние протосущностей, стремящихся воплотиться и страшащихся, что этот великий день для них никогда не настанет. Он знал, что на лице у него застыло то же выражение, потому что тот же страх сжимал его сердце: кто-то пытался украсть его место в истории. И Вина ответила на этот взгляд, полный обнаженного страха, взяв его дрожащую девятнадцатилетнюю руку и крепко сжав ее в своих рано повзрослевших ладонях.
При всем моем недоверии к сверхъестественному я вынужден поверить в эту невероятную историю: у меня просто нет выбора.
Три человека: два живых и один умерший – я имею в виду его призрачного брата Гайомарта, его возлюбленную Вину и его отца сэра Дария Ксеркса Каму – были, каждый по-своему, ответственны за то, что день Ормуса все же настал; его мрачная чувственная гримаса повторяла усмешку Гайо, а неуловимые песни Гайомарта, эти дьявольские напевы, доносившиеся из сатанинской тьмы, стали его собственными. В Гайо Ормус нашел другого – того, в кого он мечтал перевоплотиться, темную сущность, изначально питавшую его искусство.
О роли Вины в его истории скоро будет сказано достаточно подробно. Что же касается сэра Дария с его кожаным «честерфилдом» и виски, навевающем сны об Англии, сэра Дария, который и бодрствуя предавался мечтам о несуществующих особняках, то сын явно унаследовал его способность жить в воображаемом мире. И еще одно: сэр Дарий передал Ормусу разочарование в родном городе. Сын унаследовал недовольство своего отца. Но страной его снов была вовсе не Англия. Его не интересовали белые особняки; его притягивал другой дом – вместилище света и ужаса, раздумий и опасности, власти и чуда; место, где его ожидало будущее. Америка! Америка! Она манила его, она должна была получить его, так же как она манит многих из нас, и, как Пиноккио на Острове Удовольствий, как все остальные ослы, мы заливаемся (пока она пожирает нас) радостным смехом.
Хи-хо!
Америка, Великий Соблазнитель, и мне нашептывала на ушко свои сказки. Но в отношении Бомбея, города, который нам обоим предстояло покинуть, Ормус и я никогда не были единодушны. Для него Бомбей всегда был в каком-то смысле захолустным провинциальным городом. Более широкое поле деятельности, настоящая метрополия была в другом месте – в Шанхае, Токио, Буэнос-Айресе, Рио и прежде всего – в сказочных американских городах с их заостренной архитектурой, где невероятных размеров космические ракеты и гигантские шприцы торчат над улицами, напоминающими ущелья. В наше время уже не скажешь, как тогда, о местах, подобных Бомбею, что они находятся на периферии, а устремления Ормуса, которые разделяла и Вина, не назовешь центростремительной силой. Но именно желание найти центр и двигало Ормусом и Виной.
Мои побуждения были иными. Не высокомерие, а пресыщенность и клаустрофобия заставили меня покинуть этот город. Бомбей всецело принадлежал моим родителям, В.-В. и Амир. Он был продолжением их тел, а после их смерти – душ. Мой отец, так глубоко любивший и мою мать, и этот город, что иногда наполовину в шутку, наполовину всерьез признавал себя виновным в полигамии и частенько говорил об Амир так, словно она была городом, – о ее укреплениях, ее эспланадах, ее транспортных потоках, ее новых строительных площадках и уровне преступности. Сэр Дарий Ксеркс Кама тоже однажды сравнил себя – англофила, порождение созданного британцами города, – с Бомбеем; но для Виви городом его сердца был не Бомбей, а жена Амир.
Многие молодые люди покидают дом в поисках себя; мне пришлось пересечь океаны, чтобы покинуть материнское чрево. Я сбежал, чтобы родиться. Но, как курильщик с большим стажем, успешно бросивший эту привычку, я так и не смог забыть вкуса и кайфа, которые дает сигарета. Представьте себе изысканное, одержимое ритуалом (и, само собой, культом брака) чопорное общество Джейн Остин, перенесенное на почву зловонного, столь любимого Диккенсом Лондона, кишащего случайностями, как гниющая рыба кишит червями; смешайте все это в один коктейль с пивом и араком, подкрасьте пурпуром, багрянцем, кармином, лаймом, приправьте мошенниками и сводниками, и у вас получится нечто, похожее на сказочный город, в котором я вырос. Да, я покинул его, не отрицаю, но я не устану повторять, что он был дьявольски прекрасен.
(По правде говоря, были и другие причины. Например, угрозы в мой адрес. Если бы я там остался, это могло стоить мне жизни.)
Тут моя история понуждает меня двигаться в двух прямо противоположных направлениях – назад и вперед. То, что заставляет ее двигаться вперед, что ни один рассказчик не может игнорировать безнаказанно и чему я сейчас должен уступить, это, ни много ни мало, тяга к запретной любви. Как двадцатилетний немецкий поэт Новалис, «тот, кто осваивает новую территорию», увидел однажды двенадцатилетнюю Софи фон Кюн и был обречен в тот же миг на нелепую любовь, повлекшую за собой туберкулез в жизни и романтизм в литературе, так и девятнадцатилетний Ормус Кама, самый привлекательный молодой человек в Бомбее (хоть и не самый завидный жених из-за тени, что легла на его семью после истории с Ардавирафом), потерял голову из-за двенадцатилетней Вины.
Но их любовь не была нелепой. Отнюдь. Мы все наполняли ее каждый своим смыслом – так же, как впоследствии их смерть, – так что смысла оказалось в переизбытке.
«Он был настоящим джентльменом, – частенько повторяла уже взрослая Вина – Вина, не брезговавшая связями с самыми грубыми и низкими типами, настоящими подонками, и в ее голосе звучала наивная гордость. – В нашу следующую встречу, – продолжала она, – он признался мне в любви и торжественно поклялся, что не коснется меня, пока мне не исполнится шестнадцать. Мой Ормус с его чертовыми клятвами». Я подозревал, что она приукрашивает прошлое, и не раз говорил ей об этом в лицо. Это всегда бесило ее. «Поиск границ дозволенного – это одно, – шипела она. – Ты знаешь, как я к этому отношусь. Всегда – за. Я хочу испытать всё! Не просто читать об этом в газетах. Но бомбейской Лолитой я не была! – Она качала головой, сердясь на себя за то, что сердится. – Я тебе толкую о настоящем чувстве, ублюдок! Прошло больше трех лет, прежде чем я смогла снова взять его за руку! Мы только пели. И катались на этих чертовых трамваях. – Тут она смеялась; воспоминания были слишком соблазнительны, и она забывала о своей ярости. – Динь-динь! Динь!»
Каждый, кто слышал песни Ормуса Камы, конечно же, помнит, какое важное место в его личной иконографии отведено трамваям. Они возникают постоянно, так же, как уличные фокусники, картежники, карманники, факиры, демоны, рыбáчки, борцы, арлекины, бродяги, хамелеоны, шлюхи, затмения, мотоциклы и дешевый ром, и они всегда ведут к любви. Your love is bearing down on me, there can be no escape. Oh cut my captured heart in two, oh crush me like a grape. No, I don't care. It's who I am. Oh you can tram me, baby, but I will derail your tram[57].
Именно в вагонах бомбейских трамваев, ставших теперь достоянием прошлого, оплакиваемых теми, кто их помнит, встречались Ормус и Вина: она прогуливала школу, а он без всякого объяснения исчезал из квартиры на набережной Аполлона. В то время молодых людей держали на коротком поводке, так что рано или поздно все должно было выйти наружу, но пока они, как заколдованные, часами кружили по городу в дребезжащем трамвае и узнавали истории друг друга. И я тоже наконец-то могу вернуться в прошлое – прошлое Вины. Следуя другой линии моего повествования, я открою всему миру то, что Вина поведала одному лишь будущему любовнику.
Детство дрянной девчонки. Урожденная Нисса Шетти выросла в халупе, стоявшей посреди кукурузного поля в окрестностях Честера, штат Виргиния, к северу от Хоупвелла, где-то между Скримерсвиллом и Бланко-Маунтом, если ехать по безымянной дороге, отходящей на восток от шоссе 295. И справа и слева кукуруза, на заднем дворе – козы. Ее мать Хелен, американка греческого происхождения – полная, нервная, любительница романов, мечтательница, женщина из простой семьи, которая не позволяла себе опуститься и не теряла надежды на будущее, – во время Второй мировой войны влюбилась в сладкоречивого адвоката-индийца (далеко же его занесло: «Индийцы повсюду. Они как песок»), который женился на ней, став за три года отцом трех дочерей (Нисса, родившаяся во время высадки союзников в Нормандии, была средней), попал в тюрьму за злоупотребление доверием клиента, был исключен из коллегии адвокатов, вышел из тюрьмы после Нагасаки, объявил жене, что пересмотрел свои сексуальные предпочтения, уехал в Ньюпорт-Ньюс, где стал работать мясником и жить со своим любовником, по выражению Вины «как женщина», и ни разу не написал, не позвонил, не прислал денег или подарков дочерям ни на дни рождения, ни на Рождество. Хелен Шетти в это время мира без любви покатилась вниз, запила, пристрастилась к таблеткам, не вылезала из долгов, не смогла удержаться на работе, и дети тоже едва не отправились ко всем чертям, но тут ее спас мастер на все руки, строитель Джон По, вдовец, у которого было четверо собственных детишек. Он встретил ее в баре, пьяную и склонную к излияниям, выслушал, решил, что у нее были серьезные причины, чтобы отчаяться, назвал симпатичной женщиной, заслуживающей лучшего, поклялся заботиться о ней, помог бросить пить, взял ее с тремя дочерьми в свой скромный дом и никогда не делал различия между ее детьми и своими, не проронил ни слова по поводу их темной кожи, дал девочкам свое имя (так что в трехлетнем возрасте Нисса Шетти превратилась в Нисси По), работал не покладая рук, чтобы кормить и одевать всю семью, и ничего не требовал от Хелен взамен, кроме обычной женской работы по дому и согласия не иметь больше детей. И хотя Хелен совсем не того ждала от жизни, она понимала, как близка была к краю пропасти и как ей повезло, что она обрела стабильность, эту грубоватую, незамысловатую среднестатистическую любовь, мужчину с добрым сердцем и твердую почву под ногами; а если он хотел, чтобы все было как положено, что ж, она готова была приспособиться, поэтому хибара сияла чистотой, на одежде не было ни пятнышка, дети были вымыты и накормлены, вечером Джона По всегда ждал горячий ужин, и насчет детей он тоже был прав, поэтому она поехала в город и сделала операцию, так что все было хорошо, у нее и так дел по горло, и думать некогда, а в постели он был так же старомоден, как в жизни, не признавал резинок и тому подобного, и все было прекрасно, все было просто замечательно. Раз в неделю он возил их на своем пикапе в открытый кинотеатр, и Хелен По смотрела на звезды над головой, вместо того чтобы любоваться ими на экране, и с некоторыми оговорками благодарила их за то, что ей улыбнулась удача.