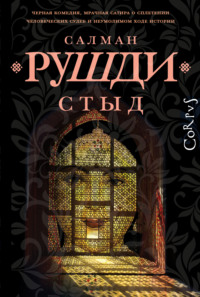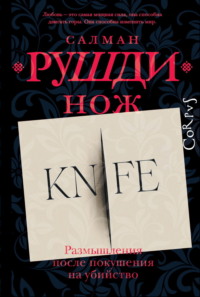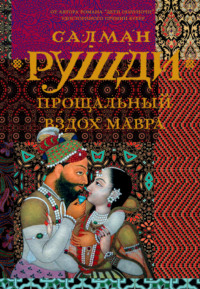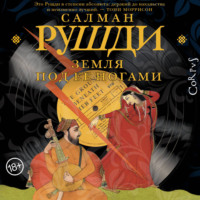Полная версия
Земля под ее ногами
Я всегда оставался событийным наркоманом. Действие – выбранный мною стимулятор. Для меня нет ничего лучше, чем прилипнуть к потной, разбитой поверхности происходящего, впившись в картинку и отключив все остальные органы чувств. Мне все равно, смердит ли увиденное мною, вызывает ли рвоту, каково оно на вкус, если его лизнуть, и даже – как громко оно вопит. Единственное, что меня занимает, – как это выглядит. Давным-давно это стало для меня источником впечатлений и самой правдой.
Происходящее у тебя на глазах – это вещь ни с чем не сравнимая, пока твоя физиономия приклеена к фотоаппарату и тебе еще не оторвали башку. Это высший кайф.
Давным-давно я научился быть невидимкой. Это позволяло мне подойти вплотную к главным исполнителям мировой драмы: больным, умирающим, умалишенным, скорбящим, богатым, алчным, пребывающим в экстазе, понесшим утрату, разъяренным, скрытным, негодяям, детям, хорошим людям, героям дня; мне удавалось просочиться в их зачарованное пространство, оказаться в эпицентре их ярости, или горя, или неземного восторга, застичь их в решающий момент их жизни и сделать свой гребаный снимок. Очень часто это умение дематериализоваться спасало мне жизнь. Когда мне говорили: не езди по этой простреливаемой дороге, не суйся в вотчину этих полевых командиров, держись подальше от территории, которую контролируют эти боевики, – меня начинало тянуть туда неодолимо. Ни один человек с камерой не возвращался оттуда, предупреждали меня, – и я уже несся в это самое место. Когда я являлся обратно, люди смотрели на меня как на привидение и спрашивали, каким чудом я остался жив. Я только пожимал плечами. Честно говоря, иной раз я и сам не знал, как мне это удалось. Наверное, если б знал, то был бы уже не способен повторить эти вылазки и погиб бы в какой-нибудь вечно тлеющей зоне боевых действий. Возможно, однажды так и случится.
Единственное, чем я могу это объяснить, – своей способностью становиться маленьким. Не физически – вообще-то я довольно рослый и крупный, – а психологически. Я просто улыбаюсь самоуничижительно и скукоживаюсь до состояния полного ничтожества. Весь мой вид говорит снайперу, что я не стою его пули, а моя походка убеждает главаря вооруженной банды не марать свой топор о такого, как я. Я внушаю им, что не заслуживаю их ярости и меня можно отпустить живым. Наверное, это получается потому, что в такие моменты я искренне полон самоуничижения. Я всегда держу наготове парочку воспоминаний, не дающих мне позабыть о своем ничтожестве. Так благоприобретенная скромность, плод грешной молодости, не раз спасала мне жизнь.
«Дерьмо собачье, – таково было мнение Вины на этот счет. – Еще один твой способ охмурять баб».
Что ж, скромность действительно производит на женщин впечатление. Но с ними я только притворяюсь тихоней. Милая застенчивая улыбка, мягкие жесты. Чем дальше я, в своей замшевой куртке и армейских ботинках, отступаю, смущенно улыбаясь и сияя лысиной (сколько раз мне приходилось слышать, какая красивая у меня форма головы!), тем настойчивее они становятся. В любви вы наступаете отступая. Хотя, если задуматься, то, что я называю любовью, и то, что вкладывал в это слово Ормус Кама, – совершенно разные вещи. Для меня это всегда было мастерством, ars amatoria: первый шаг навстречу, отвлечение внимания, возбуждение любопытства, обманное отступление и медленный неизбежный возврат. Неторопливо разворачивающаяся спираль желания. Кама. Искусство любви.
В то время как для Ормуса Камы это был просто вопрос жизни и смерти. Любовь была на всю жизнь и не кончалась со смертью. Любовь была – Вина, а за Виной открывалась пустота.
Однако для более мелких тварей я так и не смог сделаться невидимкой. Эти шестиногие крошечные террористы были со мной явно накоротке. Покажите мне (хотя лучше не надо) муравья, осу, пчелу, комара или блоху. Они обязательно позавтракают мною, а также пообедают и поужинают. Все, что мелкое и кусается, атакует меня. Поэтому, когда я фотографировал в эпицентре землетрясения плачущего, потерявшего родителей ребенка, кто-то больно укусил меня в щеку – это было похоже на укол совести, – и я оторвал лицо от камеры как раз вовремя (спасибо обладателю того ужасного жала; возможно, это была не совесть, а шестое чувство папарацци), чтобы увидеть начало текилового потопа. Лопнули все гигантские цистерны, что были в городе.
Улицы извивались, как плети; повсюду змеились трещины. Одной из первых не устояла перед сокрушительными толчками винокурня «Анхель». Старое дерево лопалось, новый металл коробился и рвался. Текиловая река цвета урины, пенясь, хлынула в переулки; основная волна этого потока обогнала спасавшуюся бегством толпу, увлекла ее своей мощью, и такова была крепость этого напитка, что барахтавшиеся в нем люди, нахлебавшись, выныривали не только мокрые, но и пьяные. Последний раз, когда я видел дона Анхеля, он суетливо и жалко метался по затопленным текилой улицам, с кастрюлей в руках и двумя висящими на шее чайниками, пытаясь спасти хоть часть своего добра.
Так ведут себя люди, когда рушится их привычная жизнь, когда на несколько мгновений они сталкиваются лицом к лицу с одной из величайших сил, способных направить жизнь в другое русло. Стóит беде обратить на них свой гипнотический взгляд, как они начинают цепляться за остов прожитых дней, стараясь выхватить хоть что-нибудь – игрушку, книгу, тряпку, ту же фотографию – из горы мусора, в который их превратила безвозвратная и ошеломляющая потеря. Дон Анхель Круз в роли побирушки был для меня просто находкой, он словно воскрешал сюрреалистический образ Кастрюльного Человека, персонажа любимых книг Вины Апсары – серии «Народ с Дальнего Дерева» Энид Блайтон, – которые она повсюду возила с собой. Скрытый своей шапкой-невидимкой, я начал снимать.
Не могу сказать, как много времени прошло. Пляшущий стол, рухнувшая асьенда, американские горки улиц, барахтающиеся и захлебывающиеся в реке текилы люди, всеобщая истерия, жуткий смех лишившихся крова, разоренные, потерявшие работу, осиротевшие, погибшие, – спросите меня, сколько времени нужно, чтобы все это снять: двадцать секунд? полчаса? Не имею представления. Шапка-невидимка и все остальные хитрости, позволяющие отключать органы чувств и направлять всю энергию к моим механическим глазам, имеют свои, что называется, побочные эффекты. Когда я оказываюсь лицом к лицу с чудовищностью происходящего, когда этот монстр ревет прямо мне в объектив, я теряю контроль над всем остальным. Который час? Что с Виной? Кто погиб? Кто остался в живых? Что за трещина зияет под моими армейскими ботинками? Что вы сказали? Скорая пытается добраться к этой умирающей женщине? О чем это вы? Не путайтесь у меня под ногами. Кто ты такой, мать твою, что смеешь меня толкать? Ты что, не видишь – я работаю?
Кто погиб? Кто остался в живых? Что с Виной? Что с Виной? Что с Виной?
Я снова вынырнул на поверхность. Насекомые жалили меня в шею. Река текилы обмелела: драгоценный поток пролился в разверстую землю. Город походил на цветную открытку, разорванную рассерженным ребенком и затем старательно и терпеливо собранную матерью по кусочкам. У него появилась новая черта – он пополнил собою паноптикум разбитых вещей: расколотых тарелок, сломанных кукол, ломаного английского, рассыпавшихся в прах надежд и разбитых сердец. Из пелены пыли появилась Вина и нетвердой походкой направилась ко мне: «Рай, слава богу». Несмотря на ее заигрывания с буддийскими наставниками (Голливуд Ринпоче и лама Гинзберг[7]) и цимбалистами сознания Кришны, тантрическими гуру (аккумуляторами энергии кундалини) и трансцендентальными риши[8], а также мастерами всяких извращенных премудростей – Дзен и искусство делать дело, Дао промискуитета, Любовь к себе и Просветление, – несмотря на все ее духовные заскоки, в глубине своей безбожной души я очень сомневался, что она действительно верит в существование Бога. Но вполне возможно, так оно и было; я и в этом ошибся; да и какое еще найти для этого слово? Когда ваша душа преисполнена благодарности слепой удаче и некому сказать за нее спасибо, а очень хочется, – чье имя вы назовете? Вина говорила: «Бог» – в чем я видел лишь способ выплеснуть накопившиеся чувства. Найти замену несуществующему адресату.
Другое, огромное, насекомое повисло над нами, придавив нас к земле мощным потоком воздуха и оглушив пронзительным ревом двигателей. Наш вертолет успел подняться как раз вовремя, чтобы избежать крушения. Теперь пилот снизился почти до земли и завис, делая нам знаки.
– Сматываемся отсюда! – крикнула Вина.
Я помотал головой.
– Лети одна! – прокричал я в ответ. Сначала дело. Я должен был послать в агентства свои снимки. – Я прилечу потом, – проревел я.
– Что?
– Потом!
– Что?
С самого начала предполагалось, что вертолет доставит нас на уединенную виллу на тихоокеанском побережье, виллу «Ураган», совладельцем которой был президент звукозаписывающей компании «Колкис». Вилла находилась к северу от Пуэрто-Валларта, в престижном отдалении, и была, как волшебное царство, зажата между джунглями и морем. Теперь никто не мог сказать, уцелела ли она. Мир изменился. Но, подобно тому, как жители городка хватались за свои рамочки с фотографиями, а дон Анхель – за свои кастрюли, Вина осталась верна идее постоянства. Она не собиралась менять намеченную программу. Однако пока похищенные мною образы не попали в выпуски новостей и я не потребовал за них выкуп, о тропическом Шангри-Ла не могло быть и речи.
– Тогда я полетела! – прокричала она.
– Я не могу лететь.
– Что?
– Лети.
– Пошел ты!
– Что?
В следующую минуту она была уже в вертолете, который поднимался; а я не полетел с нею и никогда ее больше не видел. Никто никогда ее больше не видел. Ее последние, обращенные ко мне, слова разбивают мне сердце всякий раз, когда я их вспоминаю, а вспоминаю я их тысячу раз на дню, каждый день, не считая бесконечных бессонных ночей.
– Прощай, Надежда.
Псевдонимом Рай я стал пользоваться с тех пор, как начал работать на знаменитое агентство «Навуходоносор». Псевдонимы, сценические имена, агентурные клички – для писателей, актеров, шпионов это маски, скрывающие или изменяющие их настоящее лицо. Но когда я начал называть себя Rai, «благородный», это было как саморазоблачение, потому что я раскрыл миру самое дорогое – ласковое прозвище, которым еще в детстве наградила меня Вина; это был символ моей щенячьей любви к ней. «Потому что ты держишься как маленький принц, – нежно сказала она мне, когда я был девятилетним мальчишкой с проволокой на зубах, – и только твои друзья знают, что ты самый обыкновенный придурок».
Таким был Рай, мальчик-принц. Но детство кончилось, и во взрослой жизни не я, а Ормус Кама стал ее волшебным принцем. Прозвище тем не менее за мной осталось, и Ормус по доброте своей звал меня так же; точнее, он подхватил это у Вины, как инфекцию. Скажем так: ему никогда не приходило в голову, что я могу составить ему какую бы то ни было конкуренцию, что я могу представлять для него угрозу, поэтому он считал меня своим другом. Но сейчас это не важно. Рай. Это слово также означает желание; личную склонность человека, путь, который он избрал для себя; волю, силу характера. Все, что я ценил в людях. Мне нравилось, что это имя легко подхватывают: любой мог произнести его, оно хорошо звучало на всех языках. А если ко мне вдруг обращались «Эй, Рай» в этой великой демократии исковерканных имен – в США, я не возражал, я просто получал выгодный заказ и был таков. А в другой части света «рай» означает музыку. Увы, на родине этой музыки религиозные фанатики стали убивать музыкантов. Они считают музыку оскорбительной для Бога, который дал нам голос, но не желает, чтобы мы пели, наделил нас свободой воли – rai, но предпочитает, чтобы мы ею не пользовались.
В любом случае теперь все называют меня Рай. Просто по имени, так легче, таков современный стиль. Многие даже не знают, что в действительности я Умид Мерчант. Умид Мерчант, выросший в другой вселенной, в другом временном измерении, в Бомбее, в бунгало на Кафф-Парейд, давным-давно сгоревшем. Фамилия Мерчант – возможно, следует это пояснить, – значит «купец». Бомбейские семьи часто носят фамилии, произошедшие от занятий их предков. Эндженир, Контрэктор, Доктор. А ведь есть еще Редимани[9], Кэшонделивери[10] и Фишвала. Мистри – это каменщик, Вадия – корабельных дел мастер, Вакил – юрист, Шрофф – банкир. А от вечного романа с газированными напитками вечно испытывающего жажду города произошли не только Батливала[11], но и Содавотабатливала, и не только Содавотабатливала, но даже Содавотабатлиоупенавала.
Клянусь. Умереть мне на этом месте.
«Прощай, Надежда», – прокричала Вина; вертолет начал свой резкий ступенчатый подъем и пропал из виду.
Умид, существительное женского рода. Значит «надежда».
Отчего мы так неравнодушны к певцам? Отчего песни имеют над нами такую власть? Может, все дело в самой странности такого непонятного занятия, как пение? Нота, гамма, аккорд; мелодия, гармония, аранжировка; симфонии, раги[12], китайская опера, джаз, блюз, – подумать только, что существуют такие вещи, что мы открыли магические интервалы и расстояния, порождающие простые сочетания нот, все в пределах человеческой руки, и из этого создаем соборы звука. Алхимия музыки – такая же тайна, как математика, вино или любовь. Возможно, мы научились ей у птиц, а может, и нет. Может быть, мы просто существа, вечно ищущие высшего восторга. Его и так незаслуженно мало в нашей жизни, которая, согласитесь, до боли несовершенна. Песня превращает ее во что-то иное. Песня открывает нам мир, достойный наших устремлений, она показывает нам, какими мы могли бы стать, если бы нас в него допустили.
Пять таинств являют собой ключи к незримому: акт любви, рождение ребенка, созерцание великого произведения искусства, присутствие рядом со смертью или катастрофой и наслаждение полетом человеческого голоса. В эти мгновения вселенная распахивается перед нами, и мы видим мельком то, что скрыто от людских глаз, постигаем то, что невозможно выразить словами. На нас снисходит благодать: мрачный восторг землетрясения, чудо появления новой жизни, пение Вины.
Вина, к которой незнакомые люди приходили, ведомые ее звездой, чтобы получить отпущение грехов от ее голоса, ее больших влажных глаз, ее прикосновения. Как могло случиться, что женщина с такой скандальной репутацией стала кумиром, идеалом для большей части населения земного шара? Ведь она отнюдь не была ангелом (но попробуйте сказать это дону Анхелю). Может, даже к лучшему, что она не родилась христианкой: ее бы уже давно объявили святой. Наша Дева стадионов, Мадонна арены, обнажающая перед толпой рубцы от ран, подобно Александру Македонскому, призывавшему солдат на битву; наша гипсовая Недева, истекающая кровавыми слезами и исторгающая из своего горла раскаленную песнь. Поскольку мы отошли от религии, этого древнего успокоительного средства, мы испытываем ломку и не можем избежать всякого рода побочных следствий «апсарианского» толка. Не так-то просто отказаться от привычки кого-нибудь обожествлять. В музеях залы, где выставлены иконы, вечно переполнены. Нам всегда нравилось, чтоб изображенные на иконах тела были изранены торчащими во все стороны стрелами или распяты головой вниз; они нужны нам с содранной кожей, обнаженные; в нас живет потребность наблюдать, как их красота подвергается медленному распаду, и видеть их нарциссические страдания. Мы боготворим их не вопреки их недостаткам, но вследствие этих недостатков, обожествляя их слабости, их мелкие грешки, их неудачные браки, их алкоголизм и наркоманию, их ненависть друг к другу. Видя свое отражение в Вине и прощая ее, мы прощали самих себя. Своими грехами она искупала наши.
Я был таким же, как все остальные. Я всегда приходил к ней за утешением; иногда это была запоротая работа, иногда уязвленное самолюбие, иногда брошенные напоследок женщиной безжалостные слова. Вина умела все поставить на свои места. Но лишь к концу ее жизни я нашел в себе смелость добиваться ее любви, заявить на нее права и в какой-то момент даже поверил, что смогу вырвать ее из объятий Ормуса. А потом она умерла, оставив мне боль, которую могло утолить только ее волшебное прикосновение. Больше некому было поцеловать меня в лоб и сказать: «Все будет хорошо, Рай, маленький мой ублюдок, все пройдет, давай я помажу эти гадкие ссадины своей волшебной мазью, иди к мамочке, вот увидишь, все будет хорошо».
Теперь, когда я вспоминаю слезы дона Анхеля перед Виной в его хрупкой винокурне, я чувствую зависть. И ревность. Почему я не сделал того же, не открыл ей свое сердце, не умолял ее о любви, пока не стало слишком поздно; а еще: как мне отвратительна мысль, что она дотронулась до тебя – писклявого, распустившего сопли, обанкротившегося червя-капиталиста.
Мы все искали в ней умиротворения, однако в душе ее вовсе не было мира. Потому-то я и решил написать здесь, для всех, то, что уже не могу прошептать ей на ухо. Я решил рассказать нашу историю – ее, мою и Ормуса Камы, – всю до последнего слова, во всех подробностях, и тогда, быть может, она обретет мир здесь, на этих страницах, в этом загробном царстве чернил и лжи, найдет покой, в котором ей отказала жизнь. И вот я стою у врат языкового инферно; лающий пес и паромщик ждут; под языком у меня монета – плата за переправу.
«Я не был плохим человеком», – хныкал дон Анхель. Я тоже позволю себе поныть. Послушай, Вина, я тоже неплохой человек. Хотя, как будет явствовать из моего признания, я был предателем в любви; единственный сын своих родителей, я до сих пор не имею детей; во имя искусства я воровал образы больных и умерших; я распутничал и пожимал плечами (стряхивая таким образом сидящих там и наблюдающих за мною ангелов); я совершал еще более отвратительные поступки и все же считаю себя обыкновенным человеком, одним из многих, не лучше и не хуже других. Пусть меня отдадут на съедение насекомым – но я не был законченным негодяем. В этом можете мне поверить.
Помните четвертую из «Георгик» певца Мантуи Вергилия П. Марона? Отец Ормуса Камы, грозный сэр Дарий Ксеркс Кама, знаток древней истории и любитель меда, был отлично знаком с творчеством Вергилия, и благодаря ему я тоже кое-что узнал. Разумеется, сэр Дарий был поклонником Аристея. Аристей – первый пасечник в мировой литературе, чьи слишком настойчивые ухаживания стали причиной несчастья, случившегося с дриадой Эвридикой: лесная нимфа погибла, ступив на змею, и горы возрыдали. Вергилий необычно трактует историю Орфея; он посвящает ей семьдесят шесть великолепных строк без единой точки; затем как бы между прочим добавляет еще тридцать, в которых дает Аристею возможность принести искупительные жертвы – и все, конец. Больше не нужно переживать за этих глупых обреченных любовников. Настоящий герой его поэмы – пасечник, «пастух-аркадиец», способный совершить чудо, далеко превосходящее искусство несчастного фракийского певца, который даже не смог вернуть из царства мертвых свою возлюбленную. Что же именно умел Аристей? Он мог заставить гниющий остов коровы породить новых пчел. Его даром был «дар богов, мед небесный».
Так вот. Дон Анхель умел производить текилу из голубой агавы. А я, Умид Мерчант, фотограф, могу с легкостью извлекать новый смысл из любого гниющего трупа, привлекшего мое внимание. Мой адский дар – это способность вызвать душевный отклик, чувство, возможно даже сочувствие, у равнодушных глаз, поместив перед ними немые лики сущего. Я тоже порядком скомпрометирован, и никто лучше меня не знает, насколько непоправимо. Нет ни жертв, которые я мог бы принести, ни богов, которых я мог бы молить о прощении. И все же мое имя означает «надежда» и «воля», а это ведь не пустяк? Разве не так, Вина?
Конечно, малыш. Конечно, Рай, милый.
Музыка, любовь, смерть. Несомненно, тот еще треугольник, может быть, даже вечный. Но Аристей, несший смерть, был также источником жизни, почти как бог Шива, там, дома. Не просто танцор, но Созидатель и Разрушитель. Не только жалимый пчелами, но и приведший в этот мир жалящих пчел. Итак, музыка, любовь и жизнь-смерть: как когда-то мы трое – Ормус, Вина и я. Мы не щадили друг друга. Поэтому я ничего не утаю в своей истории. Я должен предать тебя, Вина, чтобы я смог тебя отпустить.
Начинай.
2
Мелодии и тишина
Ормус Кама родился в Индии, в Бомбее, ранним утром 27 мая 1937 года и уже в первые мгновения жизни стал делать пальцами рук необычные быстрые движения, в которых любой гитарист сразу узнал бы позиции прогрессивной аппликатуры. Однако среди приглашенных поагукать над новорожденным гитаристов не оказалось – ни пока он находился в приюте сестер Девы Марии Благодатной на Алтамаунт-Роуд, ни позднее, в квартире его семьи на набережной Аполлона, и это чудо осталось бы никем не замеченным, если бы не один любительский черно-белый фильм на восьмимиллиметровой пленке, снятый 17 июня ручной камерой «пэллар-болекс», принадлежавшей моему отцу. Мой отец, мистер В.-В. Мерчант, увлекался домашней киносъемкой. Так называемый «фильм Виви», к счастью, достаточно хорошо сохранился, и много лет спустя новые компьютерные технологии позволили миру увидеть в обработанных цифровым способом крупных планах, как пухлые ручки малыша Ормуса играют на невидимой гитаре, беззвучно выполняя сложную последовательность риффов с быстротой и ловкостью, которые могли бы сделать честь любому из великих исполнителей.
Но о музыке в тот момент думали меньше всего. Мать Ормуса, леди Спента Кама, на тридцать пятой неделе беременности узнала, что носит в своем чреве мертвого ребенка. При таком большом сроке ей не оставалось ничего иного, как пройти через муки родов. Когда же она увидела мертвое тельце Гайо, старшего брата Ормуса, его неидентичного дизиготного близнеца, то настолько пала духом, что сочла продолжающиеся потуги стремлением ее собственной смерти выйти наружу, чтобы воссоединить ее с умершим ребенком.
До этого злосчастного дня она была невозмутимой эндоморфной особой, дородной, с астигматичными глазами за толстыми стеклами очков и странной манерой по-коровьи двигать челюстью, – манера эта давала ее многословному, вспыльчивому и экстравагантному мужу повод считать ее глупой. Сэр Дарий Ксеркс Кама, высокий, эктоморфный, с пышными усами и пронзительным взглядом из-под красной с золотой кисточкой фески, ошибался. То была не глупость. То была невозмутимость души, витавшей над бренностью мира, точнее – души, находившей в рутине повседневности поводы для общения с высшими силами. Леди Спента была на короткой ноге с двумя Бессмертными Святыми парсийского пантеона, с двумя Амеша Спента, в честь которых была названа: с ангелом Благой Помысел – в мысленной беседе с которым она ежеутренне проводила один час, упорно не желая посвящать мужа или кого бы то ни было в подробности этих бесед, – и с ангелом Всеблагой Порядок, под чьим руководством она вела домашнее хозяйство, отнимавшее у нее бóльшую часть дня. С этой парой леди Спента Кама более всего чувствовала духовную близость. Ангелы Целостность и Бессмертие, смиренно признавала она, для нее недосягаемы, а что касается ангелов Желанная Власть и Святое Благочестие, претендовать на слишком близкое с ними знакомство было бы нескромным.
Она никогда не упускала случая напомнить, что христианские и мусульманские представления об ангелах восходят к зороастрийским, равно как и демоны произошли «от наших дэвов». Так велико было в ней чувство собственницы и сознание превосходства парсизма, что она говорила об этой нечисти словно о домашних животных или многочисленных фарфоровых безделушках, которыми была забита их квартира на набережной Аполлона – вызывающий всеобщую зависть бельведер с пятью высокими окнами, открытыми соленому морскому бризу. Удивительнее всего было то, что человек, настолько приблизившийся к добродетели, столь откровенно отдавался во власть таких дэвов, как Отчаяние, Двоедушие и Зломыслие, призывая беду на свою голову.
– Аре[13], приди забери меня, пусть смерть станет моим уделом, – причитала леди Спента.
Две стоявшие у ее постели дамы-валькирии неодобрительно хмурились. Уте Шапстекер, возглавлявшая гинекологическое отделение приюта (в высших слоях бомбейского общества более известная как Футы-Нуты или Сестра Адольф), прочла ей краткую нотацию о том, что не подобает приглашать смерть прежде времени, ибо она придет и незваная, в свой срок. Ее помощница, акушерка сестра Джон, в то время была еще молода, но уже начала превращаться в того хмурого «Летучего Голландца», чье присутствие и родинка над верхней губой отравляли следующие полвека радость появления на свет новой жизни в Бомбее.
– Возликуйте и возрадуйтесь, – угрюмо объявила она. – Всемогущий забрал в свои закрома душу этого счастливого младенца, словно зернышко благословенного риса.
Эта парочка, вероятно, еще долго продолжала бы в том же ключе, если бы леди Спента вдруг не добавила изменившимся голосом: