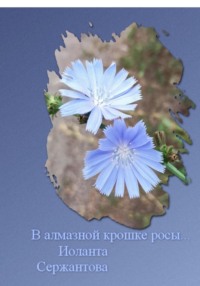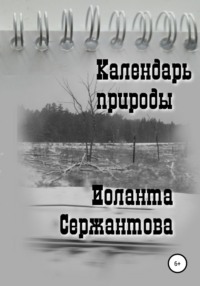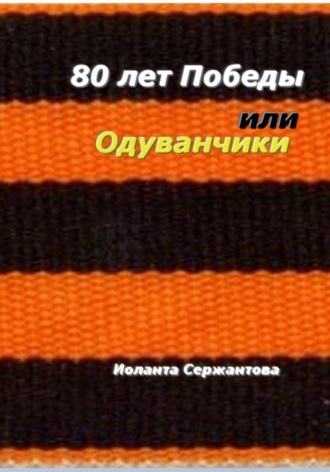
Полная версия
80 лет Победы, или Одуванчики
За делом время скоро бежит, за безделием мается, что лучше – поди, рассуди. А и рассудишь, всё одно – ошибёшься, ей-ей11…
Нельзя терять ни минуты…
Ястреб не простирал крылья, но по-просту, по-босяцки будто обнимал всех. И не свысока, но с высоты:и землю, и кто ходит по ней, и которые, вцепившись в почву пятернёй корней, растут, тянутся к солнцу, не опасаясь его жара.
Касалась расположение ястреба и часовни, что приникла к холму тут же, поблизости.
Обжигая взгляд, золотой стрелой, чудилась она словно вонзённой в облако, что тачала она промежду служб на досуге, к самомУ небосводу. Сияния часовни хватало и на то, чтобы озарить светом округу, и на возжечь спичку души всякого, кой потянется к ней взором. А коли подойдёт, не шутя восхитится бисерному плетению креста, схожему с кудрями усов бабочек, и нанизанными на них каплями нектара.
Ястреб не долетал до домов на берегу пустой почти ото льда реки, но было видно ему, как те будто таяли отражением в ней. Там же и облака мочили свои обветренные пятки, скосившись на лукавый прищур месяца сбоку неба, кой недвояко толковал о грядущей вот-вот ночи, когда уже сточит месяц по краю до многих искр звёзд, что вылетают из-под точильного круга мироздания.
Покрикивая жалостливо, птица присматривает за миром, а где-то там внизу, малыш прислушивается к тому, что делается за стеной колыбели. Взгляд его голубых глаз серьёзен. Покуда не видит и не агукает мать, что заслоняет от него свет, он может побыть самим собой. Человек слишком мало живёт, чтобы воспользоваться плодами своей опытности сполна. Надо спешить, нельзя терять ни минуты…
В самую суть…
Нестрой птичьего хора встречал вспотевшее туманом утро. Покуда певчие задирали к потолку небес свои детские лица с приоткрытыми, набухшими от слёз семенами глаз, косули порхали бабочками поперёк сумерек. Махом румяного крупа, схожего с золотистыми крылами ночных мотыльков, они намекали на живущий своей жизнью лес. И в темноте, и в мороз, и претерпевая под проливным дождём хворость, и ранясь о хворост, а уж тем более – весной, даже вдыхая комаров на бегу.
Кто про что… Не страшилась пальца бабочка, не осторожничала, перелетая кругами с полукружиями всё дальше и дальше. Да не с весеннего спросонка, не сдуру, но по памятливости. На том же пальце были сложены её глазастые крылья с глазоньками сонными, тою же рукой уложена некогда в сараюшке на поленнице, принята в осень и зиму на постой, на сохранение. Так чего ж ей теперь пужаться и кого?!
На небосводе полян взошли созвездия первоцветов. Несчитаны, несорваны, сочны луковки целёхоньки. Сжимает их крепко в кулаке лужок, а промеж ними бегают две трясогузки, трясут на пару платье, залежавшееся да пропылившееся в дальней дороге. Дело делают птицы, а нет-нет прервутся и поклонятся пригорку с лужком и впадинкой, подле которых выросли, с которым для порядку распрощались по осени насовсем, не ведая, – возвернутся ли в родные края. Кланялись трясогузки и солнышку, что казало рыжий чуб не из-за гор, а из плетёной корзины кроны леса.
…Обознавшийся шмель провёл в полёте по волосам, и возмущённый своею опрометчивостью, взмыл, но разом продрог, с тем одумался, раздвинул пределы обычая и присел в пышный от росы ворс травы у ног. Ни с чего случился его ненароком испуг. Ему, баловню весны, мало, кто и не рад. Казалось бы – всем быть должен доволен. А вот, подишь ты… Есть он, жив в каждом сущем, тот безотчётный страх. Не изловишь его, как ту муху, не прихлопнешь по-комариному. Потому – норовит он с дыханием вовнутрь. В нутро. В самую суть…
Для чего
Весна возвращала зиме взятое взаймы. Сперва она делала это втихаря, ночами, подобрав под косынку с искрой седые кудри облаков и засучив на худых руках рукава, в темноте похожих на ветви. Коли б не те сверкающие в движении крупицы, платок весны вполне сошёл бы за траур по ком-то, очень ей дорогом. Но, к счастью, нет. Ничего такого.
Весна судила так, что для веселия нужно основание, которое не должно происходить на пустом месте, и в свой черёд, – оно не вылупится само по себе птенцом. Как кладка требует тепла и бережения, так и радость взыскует попечения об себе, её нужно приготовлять, пестовать.
Намерение и то доставляет беспокойство, на одно лишь предвкушение уходит немерено заботы, так что иногда на саму утеху уже не хватает сил. Остаётся только сидеть тихонько в уголку, и улыбаясь доброй улыбкой, наслаждаться довольным видом прочих, но с чувством того, что сделано всё возможное, а невозможное или то, что так и так случится, не зависимо от хотения… К чему волноваться о неизбежном?..
Но коли всё эдак, для чего было делать тот долг? Почто брала весна у февраля? Чьим вниманием желалось ей овладеть столь крепко и так заране? Да кто ж рассудит весну, кто осудит её, коли когда и самому, бывало не раз, оказывались тесны пределы приличий и условностей.
Пусть его! Дорога обозначена не абы для чего, но именно для тех, которые готовы отступить от неё, приложив к тому силы, которых – только на раз. на одну единую жизнь....
Чего ж…
Покуда рассвет вычёсывает репьи звёзд из гривы ночи… Пламя в печи шуршит, листая загорелыми руками страницы рукописи, вчитывается в строки жарким взглядом до черноты, до невозможности никогда больше разобрать написанное. И тут же печётся постный, на ржаном солоде, хлеб…
Утро первой четвери двадцать первого века, по всей видимости, мало чем отличается от начала дня моей бабушки Прасковьи, которая вместо подписи в ведомости почтальона, дрожащей от волнения перед чужим человеком рукой выводила нервный, неровный от того, крестик.
Кажется, она ни разу не ставила креста на своей жизни, быть может, была довольна ею отчасти, даже после череды потерь близких людей. Ибо рядом – муж, единственная поздняя любовь, и дети, что появились на свет, супротив тяготения семейства норманнов кануть в омут небытия, под тяжестью камня наследственности, как ущербности, что передавалась из рода в род и намеревается иссякнуть вскоре. Впрочем, когда то случится – неведомо, а у неё пока всё хорошо. Через войну деток провела почти невредимыми. Контузия у парнишки, голодовали, само собой, но то, как у всех. Бедовали всем народом.
Хорошо помню лукавую усмешку бабки в ответ на что угодно, хохоток, похожий на девичий и взгляд, – наивный, равнодушный слегка, даже немного пугливый, дабы не расплескать себя в дороге бытия из-за чужого к судьбе касательства.
От того ли, нет, бабка казалась временами чудной, как бы не в себе. Или напротив – глубоко в себе, где на дне души плескались уцелевшие воспоминания о братьях, отце и матушке. В такие минуты, не меняя голубого, воистину небесного цвета, зрачки её глаз расцветали мелкими тёмными лучиками, похожими на гузку спелого мака, и бабка начинала петь. От звуков тихого, ровного её голоса, что верно выводило неведомую, но такую искони знакомую, узнаваемую мелодию, отчего-то щемило сердце.
Не могу припомнить, чтобы бабка задержала когда ладонь на моей макушке, привлекла бы к себе и потрепала за волосы с той, навеки глубинной лаской, на которую столь щедры обыкновенно бабушки к внукам… Такого не было никогда. Но вот сами её ладошки помню, вижу, как теперь: с широкими пальцами, повсегда невероятно чистые и сморщенные, будто только что из тазика с мыльной водой.
Голубое, цвета бабкиных глаз, небо и белые облака, как аккуратный седой зачёс её волос. Знать, тревожится обо мне бабка, коли чудится часто, будто даёт знать об себе. Только чего ж она… раньше… тогда! – так не разу и не обняла…
Мудьюг
А.Б.– И.С. декабрь 19**
«Приветствую тебя, мой дорогой друг и товарищ по лженауке!
Зимняя экспедиция в Летнюю Золотицу складывалась непросто.
Дорога туда, супротив обыкновенной, летней, украла немало времени.
Из Москвы тащились паровозом до Архангельска, из Архангельска на перекладных до острова Мудьюгский, оттуда – на Большой Соловецкий, и только после – расположились, наконец в палатках знакомой, надоевшей нам с тобой до печёнок Золотице…»
(Из письма одного океанолога другому)
Мудьюг… Для каждого он свой, о своём.
Для кого-то это – выписанное чёрной масляной краской имя двухпалубного судёнышка, курсировавшего в семидесятых годах прошлого века между Кемью и Большим Соловецким островом. Таковых будоражит замешанная не на скипидаре или льняном масле, а на восторгах новизны и юности надпись, ибо напоминает о временах безмятежности, вкупе с беспечным пониманием, превозношением себя, как всесильного и бессмертного обитателя Вечности с неутолённой жаждой познать неизведанное, каким бы ни оказалось оно.
Есть те, которым Мудьюг знается или, – хуже того! – помнится мрачным не без причины, страшным местом времён Британской интервенции12.
Для меня самого, Мудьюг оказался первым в жизни настоящим островом. Участок суши, со всех сторон покрытый водой, со страниц учебника по географии предстал передо мной однажды во всей простоте своего великолепия.
Когда я ступил на берег острова, тесно поросший соснами, что издали казались горной грядой, то посреди сплошного, бескрайнего, промытого водами Белого моря песка заметил… лапоть. Отвязавшийся некогда от чьей-то ноги, он, тем не менее, был чист, сух и на удивление цел.
Я вертел его в руках ровно с тем же неподдельным изумлением, как рассматривал бы выброшенную на отмель раковину, насильно оставленную моллюском. Этот обыкновенный… необыкновенный холмогорский стУпень с плоским носком был точно также прост, как и замысловат, не более чем ладен и не менее, чем красив. Вероятно, похожий нАшивал Михайло Ломоносов. Само собой, сделан он был из берёзового лыка. Где уж тут взяться липам на СеверАх! Переплетённое с мелкими корешками подкорье13 давало лаптю повод зваться заодно и коренником… Но какая печаль, как его было звать, коли это был мой первый остров, с первым лаптем на его берегу, и… будто всё внове!
И волки, что, не обращая внимания на людей, трусили, не таясь и не труся мимо на охоту промеж торосов замерзающего Белого моря. И сами люди, неутомимые и бесстрашные рыбаки, которые спокойно выходили на дорках14 в море, где их не сдавливало льдом, а выжимало наружу. Да даже бездельники, и те сновали от острова к материку по Сухому Морю15 «за добавкой». Ведь ежели кому сухопутному «сеДмь16 вёрст не крюк», то тем и семь миль не путина.
Логично это или нет, но именно Мудьюг раскрыл мне карты, припрятанную в рукаве Белого моря. Оно ясно дало понять, что не хочет перестать быть собой. И именно потому кажется суровее, чем есть на самом деле.
…Умословие17, как всякая наука, принята человеком в обращение для удобства и наполнения времяпровождения особым смыслом, неким сторонним, не присущим исстари вкусом. Так происходит из-за неумения чувствовать, понимать течение жизни само по себе. Подсаливая время, мы заставляем его страдать, но не умеем сострадать ему, ибо каждый более прочих заботится об себе, о благополучии, в котором нет ровно никакого резона до той самой поры, пока бытие не расслабит створки своей раковины и не даст разглядеть в складках мантии ощетинившуюся кристаллами арагонита18жемчужину, лукаво сокрывшую под слоями радужного перламутра, банальную, попираемую всуе крупинку простого песка.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.