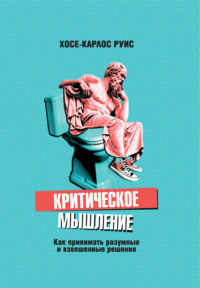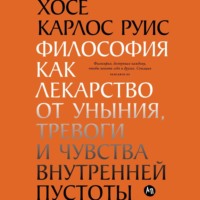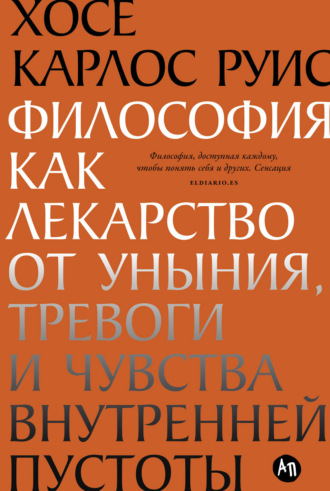
Полная версия
Философия как лекарство от уныния, тревоги и чувства внутренней пустоты
Преимущество церемоний в том, что они обладают четким регламентом, поэтому участие в них носит абстрактный характер. Суть их сводится к тому, что человек должен следовать инструкции. Кроме нее больше ничего и нет: церемония разъединяет, что, в свою очередь, приводит к обеднению социума. Участвуя в церемонии, мы волнуемся только о той роли, которую должны сыграть, и прикладываем все усилия для того, чтобы справиться с ней как можно лучше.
Ритуал сдает позиции. Раньше мы старались сохранить связь со своими корнями при помощи ритуалов, а теперь отключаемся от действительности и подчиняем часть нашей жизни протоколам церемоний. Другими словами, мы прошли долгий путь от связи с другими к «аду одинаковости»[7], как назвал это Хан Бён-Чхоль.
Приключения закончились
Распространение церемоний привело к ослаблению идентичности в том, что касается нашего происхождения, то есть корней, которые удерживали нас внутри семейной системы. Когда человек отправлялся за границу, его привязанность к корням заставляла его остро переживать приключения. В гиперсовременном обществе люди испытывают настоятельную потребность в ярких эмоциях и готовы практически на все, чтобы повысить уровень адреналина (опасные селфи, прыжки с парашютом, банджи-джампинг и т. д.). Эта одержимость сильными эмоциями и поиском необычного, эта зависимость от всего удивительного обнажает нехватку внутреннего напряжения в нашей жизни и свидетельствует об отсутствии приключений как таковых.
Когда связь с прошлым ослаблена и отправная точка размыта, мы уже не знаем, на что ориентироваться. При этом не стоит путать внутреннее напряжение, которое поддерживает тонус и внимание в нашем микрокосме, с внешним давлением, которое выводит нас из равновесия и приводит к гиперактивности. Когда мы подвергаемся давлению извне, приключение превращается в испытание, в попытку вернуть контроль над жизнью, вновь обрести внутреннюю защиту, которая прочно связывала нас с корнями.
Под приключением, как я уже отмечал, понимаются будущие события, точнее – то, что с нами случится и приведет к отрицательным (провал) или положительным (успех) последствиям. Это понятие теряет свою актуальность, потому что гиперсовременный человек не соглашается на роль получателя, отказывается от ожидания, избегает его и, более того, забывает о том, как важно чего-то ждать.
Различия стимулировали и усиливали критическое мышление, запуская рефлексию при столкновении с противоречием. Все странное и необычное воспринималось отстраненно, и это помогало критически осмысливать жизнь, дистанцироваться и размышлять.
Можно дать более изысканное определение ритуалу и рассматривать его как элемент провокации, усиливающий изумление, благодаря которому более 2500 лет назад в Греции зародилась философия. Потребовалось немного времени и практики – и вот уже изумление превратилось в любопытство и затем в сомнение, пройдя, таким образом, три этапа протомышления (изумление-любопытство-сомнение). Поддерживать ритуал лучше всего с помощью повторений, то есть постоянных напоминаний. Это способствует тому, чтобы какая-то идея укоренилась в нашем сознании. Именно этим принципом на протяжении многих тысячелетий руководствуются религии: напоминают и повторяют, чтобы нить идентичности оставалась натянутой. Мы же, напротив, склонны многое забывать, и индустрия новизны всячески поощряет это бегство от обыденности.
Гиперсовременный человек вырос в атмосфере гиперактивности и привык к динамике бесконечного прогресса, к необходимости проявлять инициативу. Его намерение овладеть будущим, подстроить его под себя, будто это очередное достижение, привело к тому, что приключение исчезло из нашей жизни. Тогда как оно подразумевает выжидательную позицию и открытость тому, что может произойти, внимание к происходящему вокруг, к тому, с чем мы встречаемся, взгляд по сторонам, а не только в будущее и ожидание того, что случится.
В эпоху глобализации состояние ожидания стало синонимом поражения и пассивности. В процессе становления идентичности техноглобализация приводит к общему знаменателю все чужеродное, виртуализируя людей и побуждая их участвовать в церемониях. Используя смартфоны, мы чувствуем, что мир находится прямо у нас в кармане, можем купить любую вещь в мире, а Amazon и AliExpress доставят ее нам из Китая прямо домой. Нам еще и пяти лет не исполнилось, а у нас уже есть загранпаспорт, к 18 годам мы успеваем съездить за границу, полетать на самолете, попробовать всевозможные иностранные блюда, получить первый сексуальный опыт, сделать первую татуировку… И это постоянное стремление что-то делать в совокупности с желанием произвести впечатление (мы же помним, что, если не поделиться опытом в соцсетях, он не будет считаться полноценным) не оставляет времени для укоренения ритуалов, и приключение становится просто очередным случаем из жизни.
Рассеянная личность
Ослабление ритуала происходит тогда, когда исчезает повторение. Ритуал рождается в приватной обстановке, вдали от посторонних глаз, и создает настолько особенные связи, что мы испытываем дискомфорт, когда в них вторгается кто-то чужой. Мы не хотим, чтобы за нами наблюдали во время исполнения ритуалов, потому что осознаем их исключительность. Мы повторяем их до тех пор, пока они не входят в привычку, и регулярно призываем близких к участию в них. Мы заботимся о том, чтобы им было комфортно и стремимся обеспечить покой и стабильность, что способствует укреплению межличностных отношений.
Однако, отдав приоритет церемониям, мы перестали обращать внимание на других людей, несмотря на то что церемонии сейчас встречаются повсюду, особенно в виртуальном мире. Они очень конкретны и ограничены во времени, но при этом не повторяются: глядя в смартфон, планшет или компьютер, мы постоянно видим новую информацию. Когда мы публикуем видео, фото или текст, мы стараемся сделать так, чтобы наш пост отличался от предыдущих, но всегда остаемся в рамках символов, составляющих код определенной церемонии. Это микропроцессы, которые обладают собственной значимостью и перестают существовать, как только гаснет экран. Мы следуем правилам, и пусть содержание каждый раз новое, страх отличаться от других не позволяет нам выйти за рамки, продиктованные сообществом, и в итоге все наши действия однотипны. Это навязчивое желание проявлять активность и негласное правило публиковать что-то слегка отличное и в то же время похожее приводят к тому, что нас больше интересуют собственные действия, чем действия других людей.
Избежать искушения становится все труднее. Мы достаем телефон за завтраком, просматриваем социальные сети, всегда одни и те же и в одном и том же порядке; подбираем изображение под настроение, чтобы им поделиться, делаем фото, улыбаемся, позируем, выбираем лучший ракурс, фотографируемся еще раз, улучшаем снимок в фоторедакторе, накладываем фильтры, думаем, как его подписать, ищем подходящий хештег – и вот мы уже готовы поприветствовать наше виртуальное сообщество, то есть готовы к церемонии. Смотрим несколько профилей в твиттере, пробегаемся по заголовкам, узнаем новости из сторис в инстаграме, листаем фото, отвечаем на несколько сообщений в мессенджерах, «приводим себя в порядок» и, наконец, публикуем свое утреннее приветствие – вот и все: церемония в виртуальном мире состоялась.
Можете себе представить что-то подобное в реальном мире? Что, если бы мы прикладывали столько же усилий, самоотдачи и так старались бы для людей, которые живут с нами? Если бы мы, проснувшись, с улыбкой приветствовали членов своей семьи, показывали им себя в самом привлекательном виде, думали перед тем, как что-то сказать, подбирали фразы, которые их мотивировали бы или побуждали к размышлению… Но мы этого не делаем по многим причинам, в том числе и потому, что понимаем, что вся та церемония, которую мы совершаем для виртуального мира, на самом деле – симулякр и ее цель – фальсификация. Сознательная, изматывающая фальсификация. Принимать участие в ней утомительно, потому что нормы, критерии и процедуру определили не мы. Однако нам очень страшно оказаться за бортом, и потому мы старательно следуем инструкциям. Увлекаться и импровизировать нельзя, особенно когда речь идет о социальных сетях. Мы вынуждены неукоснительно следовать процедуре, чтобы избежать неприятных последствий, что подвергает нас еще большему стрессу, который в итоге изнуряет нас.
За эту усталость мы расплачиваемся в реальной жизни, потому что она не позволяет нам сформировать собственные ритуалы. Когда мы впускаем церемонии в свой дом, в нем не остается места для отдыха и уединения. Время, проведенное перед экраном, как правило, вычитается из времени, которое отведено для общения с близкими, с друзьями, то есть с теми, кто окружает нас в реальной жизни.
К этому добавляется фактор новизны. В цифровой реальности изображения, новости и сторис постоянно обновляются и недолго остаются актуальными, что побуждает нас проводить в сети больше времени. Когда мы выходим из интернета, наваливается усталость и наша способность взаимодействовать с другими ослабевает. Реальность постепенно перестает влиять на нас.
Иногда это приводит к ухудшению личных отношений, особенно с партнером. Количество разводов продолжает увеличиваться, и все больше людей выбирают жизнь в одиночестве. Тому есть множество причин, но мы не должны забывать, что утрата ритуалов в нашей жизни усугубляет эту проблему. Когда ритуал совершался постоянно и был частью становления нашей идентичности, мы беспокоились о близких, с которыми разделяли традиции. Когда вступали в новые отношения, мы соприкасались с привычками другого, с незнакомым нам видом близости. Стремление радовать партнера было взаимным, и осознание трансцендентности ритуалов побуждало к толерантности. Когда создавался новый проект совместной жизни, обсуждались и устанавливались новые правила, которым предстояло работать внутри союза, а также согласовывалось сохранение уже существующих, всегда с общей целью: радовать всех участников и укреплять отношения внутри семьи. Новые ритуалы становились отличительным признаком пары и создавали безопасное пространство в отношениях. Образование пары или семьи подразумевает слияние ритуалов, которое оговаривается заранее и которому придается огромное значение, так как традиции каждого партнера глубоко укоренены и оба понимают важность совместного проживания с другим и точек соприкосновения в паре.
Но, ослабив связующую нить ритуалов, мы потеряли способность быть близкими, толерантными и принимающими. Наша личность рассредоточилась, мы отдали приоритет участию нашего эго в церемониях, и поэтому нам с каждым разом все труднее установить с кем-то близкие отношения.
Тесей и носки
Чтобы лучше понять жестокость максимы «познай самого себя», обратимся к мифологии. Парадокс Тесея – хрестоматийный пример проблем, порождаемых анализом идентичности.
Итак, Тесей был храбрым юношей, сыном царя Афин Эгея. После того как Эгей убил сына царя Крита, критяне напали на Афины. Осада была насколько мощной, что полис сдался и в качестве наказания афиняне должны были ежегодно отправлять на Крит 14 юношей и девушек из благородных семей, чтобы их принесли в жертву Минотавру – чудовищу с телом человека и головой быка. Жил он в лабиринте и питался людьми, которые туда попадали. Тесей попросил у отца разрешения присоединиться к группе юношей и девушек, которым предстояло отправиться на корабле на Крит и стать очередными жертвами чудовища. Его целью было убить Минотавра и вместе со всеми вернуться в Афины. Эгей дал свое согласие, и вскоре корабль с 30 веслами и черными траурными парусами был готов к отплытию. Отец попросил сына, чтобы тот в случае успеха на обратном пути сменил черные паруса на белые, и таким образом Эгей, увидев корабль издалека, сразу узнал бы о победе сына. Тесей убил Минотавра и освободил афинян от гнета Крита, но на обратном пути забыл поменять паруса. Царь Эгей, каждый день поднимавшийся на скалу в ожидании корабля, увидел черные паруса и бросился со скалы в море. С тех пор это море стали называть Эгейским. Добравшись до суши, Тесей стал новым царем Афин, а корабль поставили на холме как памятник подвигу Тесея.
Этот монумент стоял под открытым небом, поэтому его приходилось регулярно реставрировать, заменяя изношенные деревянные доски на новые. Со временем в корабле Тесея не осталось ни одной оригинальной детали. Так и возник парадокс: было ли судно на вершине холма кораблем Тесея? Насколько корабль, все части которого были заменены, был кораблем, на котором плыл Тесей?
Много веков спустя к этому парадоксу обратился английский философ XVII в. Джон Локк, который предложил мысленно заменить корабль на дырявый носок. Если мы заштопаем дырку, будет ли это тот же самый носок? А если дырок будет не одна, а три, четыре, пять и мы все их залатаем, сможем ли мы утверждать, что это тот же самый носок?
Мы продолжаем называть эти предметы по-прежнему, уверены, что это корабль Тесея или наш носок, несмотря на то что бо́льшую часть материалов в них заменили. Мы не сводим идентичность к чему-то одному, например к оригинальности составляющих его элементов. Аристотель считал, что не существует универсального критерия, по которому можно идентифицировать что-либо, иными словами, предметы определяются посредством разных характеристик. Также не стоит забывать и о динамических свойствах предмета, из-за которых очень непросто заключить сущность чего-либо в одно-единственное слово или понятие.
Проблема идентичности
Трудно дать точное определение идентичности. Несомненно, образ, а именно эстетика внешности, – ее важная составляющая. По мнению некоторых мыслителей, тело, в котором мы проводим всю жизнь, и есть суть нашей идентичности. Но до какой степени это верно?
Чтобы раскрыть идею восприятия тела как сути идентичности, философ Бернард Уильямс предложил провести мысленный эксперимент. Представим, что сумасшедший ученый похищает вас и меня и говорит, что завтра в своей лаборатории он переместит вашу психику (разум, воспоминания, опыт) в мое тело, а мою – в ваше. По завершении одно тело получит миллион евро, а другое подвергнут пыткам. Вам предстоит выбрать, чье тело заберет деньги, и чье будут мучить. Принятое решение в этом мысленном эксперименте даст вам приблизительное представление о том, в чем кроется суть вашей идентичности.
В большинстве случаев люди предпочитают, чтобы миллион евро достался их новому телу. Это означает, что мы, вероятно, придаем слишком большое значение физическому облику. Чрезмерная забота о теле – изматывающие тренировки в спортзале, строгие диеты, пластические операции, – возможно, лишь способ отвлечься от того, что мы на самом деле считаем важным для себя и в себе.
В свою очередь Джон Локк считал, что личность в большей степени определяется нематериальным, например сознанием. Сложность же заключается в том, что по мере того, как мы растем, наше сознание также меняется. Чтобы объяснить механику этого процесса, он выстроил целую теорию, в которой главное место отвел памяти как хранилищу воспоминаний о том, кто мы. То, как именно каждое воспоминание связано с предыдущим, и формирует нашу уникальность.
Это дает нам некоторое представление о важности памяти и проблемах, к которым приводит ее потеря. Всем известно, что болезнь Альцгеймера, при которой разрушаются нейронные связи, в конечном итоге радикально изменяет личность человека. Не новость и то, что современный мир не лучшее место для тренировки памяти, ведь всю информацию можно найти в интернете, и система образования сегодня придает заучиванию фактов меньше значения. Но если Локк прав, то потеря памяти означает измельчание идентичности, что вполне логично.
Общество, которым правит гиперстимуляция, не побуждает нас тщательно обрабатывать информацию и укреплять память. Жесткие диски, облачные хранилища и гигабайты данных меняют подходы современной педагогики, которая фокусируется на развитии навыков, а упражнения на запоминание ставит далеко не на первое место. Взгляд, направленный на настоящее, маленькая ценность прошлого и гонка за тем, кем мы хотим стать в будущем, меняют критерии определения идентичности.
Ад однообразия
Когда интернет только появился, мы думали, что наш голос услышат, наше слово прочтут и наш образ в глобальной сети станет уникальным. Внезапно у нас появился инструмент, позволивший нам выйти за пределы своего окружения и заявить о себе в любой точке мира. Мы совершили киберпутешествие, преодолев физические ограничения. Также у нас появилась возможность услышать других и по достоинству оценить их уникальные особенности. Это невероятно обогатило нашу жизнь. Интернет воспринимался как магистраль, соединяющая нас со всем миром. Мы проявляли свою индивидуальность, налаживая контакты с другими, и это было благом. Нам открылся бесконечный горизонт возможностей для развития собственной личности через опыт общения с другими людьми со своими индивидуальными особенностями, ведь до этого они были слишком далеки от нас или попросту нам не знакомы. Мы оставались самими собой и одновременно становились лучше, перенимая то, что нам казалось подходящим.
Но мы не учли две вещи: огромную скорость развития и соблазн экранных изображений. То, что в начале казалось полем, где процветает разнообразие и плюрализм, где моя уникальность и уникальность моего сообщества только усиливались, неожиданно превратилось в водоворот тысяч и тысяч чужих индивидуальностей, далеких от моего контекста и обстоятельств моей жизни. Будь мы из столицы или провинции, мегаполиса или села, высшего или низшего социального класса, интернет объединил нас всех по одному критерию – единообразию. Мы и не заметили, как то, что делало нас особенными и отличало наше сообщество от других, растерялось, смешавшись с чужими обычаями (Хеллоуин, иностранные Санта-Клаусы и Деды Морозы, реггетон). Они так быстро встроились в нашу ДНК, что за короткое время от нашей уникальности ничего не осталось. На смену пришла однородность. Сейчас мы отчаянно пытаемся найти то, что нас отличает, чтобы как-то выделиться из толпы. Мы боремся за право быть особенными, доходя до крайности в своем стремлении вернуть старые признаки идентичности и отказываясь перенимать чужую культуру.
Фанатизм и безликость
Структура идентичности сложна и включает элементы, которые продолжают определять нас на протяжении всей жизни. Личность каждого человека уникальна. Все мы рождаемся с разными возможностями, и поэтому отличаемся друг от друга. Значительная часть жизни уходит на то, чтобы осознать эти возможности и на их основе развить некоторые из своих способностей.
Когда мы формируем внутри себя то, что называется индивидуальными особенностями, мы прикладываем огромные усилия, чтобы всё в нашей жизни с ними согласовывалось. Наши желания, поведение, мечты[8]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Сеннет Р. Падение публичного человека. – М.: Логос, 2002.
2
Липовецкий Ж. Эра пустоты. – СПб.: Владимир Даль, 2001.
3
Simmel, G., «El secreto y la sociedad secreta», Sociología, vol. 1, Revista de Occidente, Madrid, 1977.
4
Baudrillard, J., La ilusión vital, Siglo XXI, Barcelona, 2002.
5
Ehrenberg, A., La fatiga de ser uno mismo: depresión y sociedad, Nueva Visión, Buenos Aires, 2000.
6
Han, B-C., La desaparición de los rituales, Herder, Barcelona, 2020.
7
Хан Бён-Чхоль. Агония Эроса. – М.: Лед, 2023.
8
Профессор и популяризатор философии Майте Ларраури посвятила много исследований проблеме идентичности желания. Одна из самых популярных работ: Larrauri, M., El deseo según Deleuze, Tàndem Edicions, Valencia, 2000.