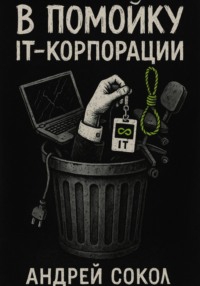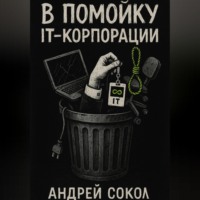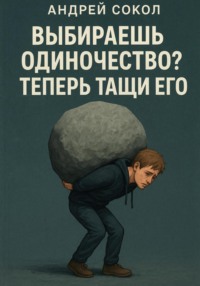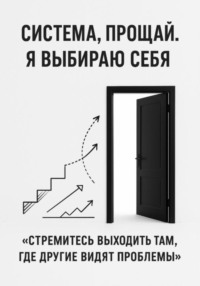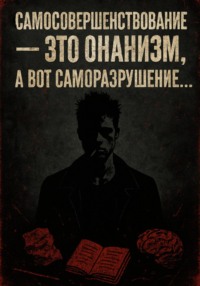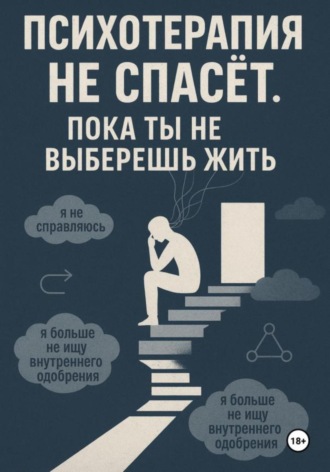
Полная версия
Психотерапия не спасёт. Пока ты не выберешь жить

Адрей Сокол
Психотерапия не спасёт. Пока ты не выберешь жить
Введение. Терапия как прикрытие: почему меняться так невыгодно
Давай начистоту. Ты здесь не потому, что у тебя всё хорошо. Ты здесь, потому что что-то идёт не так. И ты, скорее всего, уже знаешь, что именно. Ты можешь назвать это по имени. Можешь описать в деталях. Ты провёл часы, дни, может быть, годы, разбирая это на части в своей голове или в кабинете специалиста. Ты знаешь свои паттерны, свои триггеры, свою детскую травму и своего внутреннего ребёнка. Ты, возможно, даже подружился со своей тенью и научился выставлять личные границы. Ты проделал огромную работу. Ты молодец.
И вот ты сидишь здесь, со всем этим знанием, со всем этим пониманием. А по вечерам всё так же хочется выть. Или исчезнуть. Или просто поставить жизнь на паузу, потому что сил на следующий день просто нет. Что-то не сходится, правда? С одной стороны – тонны самоанализа, часы разговоров, прочитанные книги. С другой – та же самая тупая боль в груди. То же самое ощущение, что ты бежишь на месте в колесе, которое сам для себя и смазываешь.
Психотерапия стала идеальным прикрытием. Это новый социальный ритуал, маркер осознанности. «Я в терапии» – звучит почти как «я в домике». Это заявление снимает с тебя часть ответственности. Оно объясняет твои срывы, твою прокрастинацию, твои неудачные отношения. «Мне можно, я в процессе». «Я не могу сейчас, я прорабатываю это». Это звучит так правильно, так зрело. И это самый большой самообман нашего времени.
Потому что терапия стала местом, куда ходят не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы получить легальное право не меняться. Это абонемент в зал, в котором ты сидишь на скамейке и смотришь, как другие тренируются. Ты знаешь всё о тренажёрах, о правильной технике, о спортивном питании. Ты можешь дать совет новичку. Но твои мышцы атрофируются. Ты приходишь в терапию, чтобы получить очередное подтверждение, что с тобой всё сложно. Что твоя ситуация – особенная. Что твои травмы – глубоки. И терапевт, хороший терапевт, кивает. Он подтверждает. Он сочувствует. Он даёт тебе пространство, чтобы ты мог ещё раз, по сотому кругу, рассказать свою историю. Историю о том, почему ты не можешь. Почему тебе больно. Почему у тебя не получается.
И в этом пространстве так уютно. Так безопасно. Здесь тебя понимают. Здесь тебя не осуждают. Здесь твою боль признают и легитимизируют. И ты выходишь из кабинета с чувством облегчения. Тебя поняли. Ты не один. Но что изменилось в твоей реальной жизни? Ты вернёшься в ту же квартиру, на ту же работу, к тем же людям. И будешь ждать следующего сеанса, как ждут дозы. Дозы понимания. Дозы сочувствия. Дозы, которая позволяет продержаться ещё неделю в той же самой реальности, не меняя в ней ровным счётом ничего.
Вот первая, и самая главная, причина, почему меняться так невыгодно. Потому что твоя история страдания стала твоей личностью. Ты – это твоя история. Ты – тот, у кого было трудное детство. Ты – тот, кого не любили. Ты – тот, кто борется с тревогой. Ты – тот, кто пережил предательство. Это стало твоим основным идентификатором. А теперь представь на секунду, что ты изменишься. Что боль уйдёт. Что проблема решится. Кто ты тогда?
Эта пустота пугает больше, чем любая боль. Боль знакома. Ты с ней сжился. Ты знаешь, как она себя ведёт, когда приходит, когда уходит. Ты научился с ней жить, как живут с хронической болезнью. Она – часть твоего расписания. А что будет, если её не станет? Кто ты без своей драмы? Просто человек, который живёт свою жизнь? Это звучит так пресно. Так скучно. Так… никак. Твоя сложность, твоя многослойная проблема, твоя уникальная травма – это то, что делает тебя интересным в собственных глазах. Это твоя глубина. Убери её – и что останется? Страх оказаться пустым, простым, обычным. Таким же, как все. Этот страх парализует. Лучше быть глубоко несчастным, чем поверхностно счастливым. Так тебе кажется. Потому что страдание облагораживает. По крайней мере, так принято считать. Оно даёт тебе право на снисхождение. От себя и от других. Счастливым людям никто не сочувствует. Счастливым людям завидуют. От счастливых людей чего-то ждут. А от страдальца ничего не ждут. Ему можно просто быть. Просто страдать. И это очень, очень выгодная позиция.
Вторая причина – ответственность. Пока ты «в процессе», ты не несёшь полной ответственности за свою жизнь. У тебя есть прекрасное объяснение всему: «Это мой паттерн», «Это моя травма отыгрывается», «Это мой внутренний ребёнок боится». Эти формулы, выученные в терапии, работают как индульгенция. Они освобождают от необходимости действовать. Зачем что-то делать, если корень проблемы так глубок, так сложен? Сначала надо разобраться с корнем. А разбираться можно вечно. Это как копать колодец без дна. Ты всё время занят важным делом – копанием. Ты устаёшь. Ты прилагаешь усилия. Но воды всё нет. И ты говоришь себе и другим: «Я копаю. Я стараюсь. Просто колодец очень глубокий».
Но как только ты признаешь, что можешь измениться, вся ответственность ляжет на тебя. Не на родителей. Не на бывшего партнёра. Не на «токсичное окружение». На тебя. Если ты можешь, но не делаешь – это твой выбор. Каждый день. Каждую минуту. Неудачное собеседование – это не потому, что у тебя синдром самозванца, проработанный на трёх сессиях, а потому, что ты выбрал не готовиться. Одиночество – не потому, что у тебя травма привязанности, а потому, что ты выбираешь сидеть дома и не рисковать знакомиться с новыми людьми. Низкий доход – не потому, что у тебя ограничивающие убеждения, а потому, что ты выбираешь не просить повышения или не искать другую работу.
Почувствуй этот груз. Это страшно. Гораздо проще жить с мыслью, что ты – жертва обстоятельств, прошлого, чужих ошибок. Жертве сочувствуют. Жертве помогают. А с автора спрашивают. Автор сам пишет свою историю. И если история получается дерьмовой – винить некого. Это твой почерк. Твои слова. Твои сюжетные повороты. Терапия позволяет тебе оставаться в роли жертвы, но с приставкой «осознанная». Ты «осознанная жертва». Ты знаешь, почему страдаешь. Это даёт иллюзию контроля, но не даёт реальной власти над жизнью. Власть появляется только в тот момент, когда ты говоришь: «Да, это всё было. Это часть моей истории. Но это не определяет моё будущее. Моё будущее определяю я. Прямо сейчас. Своим выбором». Сказать это – значит объявить войну всей своей удобной и привычной картине мира. Ты готов к такой войне? Или проще заплатить за ещё один час, чтобы поговорить о том, как тебе мешает жить прошлое?
Третья выгода бездействия – сохранение существующих отношений. Твоя система – твои друзья, семья, партнёр – привыкла к тебе такому, какой ты есть сейчас. Твои проблемы, твои жалобы, твоя роль – это кирпичики в здании ваших отношений. Ты – тот, кто вечно ноет про работу. Твоя подруга – та, кто тебя утешает. Ты – тот, кто беспомощен в быту. Твой партнёр – тот, кто всё решает. Это танец, который вы танцуете годами. Вы оба знаете все шаги.
А теперь представь, что ты перестанешь жаловаться на работу. О чём вы будете говорить с подругой? Её роль спасительницы станет не нужна. Ей придётся искать новый способ взаимодействия с тобой. Или нового «утопающего». Представь, что ты научишься сам решать свои проблемы. Что будет делать твой партнёр? Его роль опекуна испарится. Это может вызвать у него тревогу, раздражение, чувство ненужности.
Любое твоё изменение – это угроза для системы. Люди не любят, когда меняются правила игры, в которую они привыкли играть. Они начнут, сознательно или нет, саботировать твои изменения. «Ой, что-то ты стал слишком правильным». «Раньше с тобой было веселее». «Зачем тебе это надо? Жили же нормально». Они будут тянуть тебя назад, в привычное болото, потому что твоё развитие подсвечивает их собственную стагнацию. И это вызывает дискомфорт.
И ты это чувствуешь. Ты подсознательно понимаешь, что, изменившись, рискуешь остаться в одиночестве. Что старые связи могут не выдержать твоей новой версии. И страх одиночества часто оказывается сильнее желания быть счастливым. Лучше привычная, пусть и токсичная, компания, чем неизвестность и пустота. Поэтому ты продолжаешь играть свою роль. Ты жалуешься. Ты просишь совета, которому не следуешь. Ты создаёшь драму, чтобы было что обсудить. Ты поддерживаешь гомеостаз своей маленькой социальной вселенной. Терапия в этом – отличный помощник. Ты можешь рассказывать всем, что «работаешь над собой». Это создаёт видимость движения, но не меняет ничего по сути. Это позволяет и сохранить старые связи, и создать иллюзию личностного роста. Идеальный компромисс. Идеальный самообман.
Четвёртая причина – это физический дискомфорт реальных перемен. Думать – легко. Говорить – легко. Чувствовать в безопасном кабинете – тоже более-менее терпимо. А вот делать – сложно. Действие – это всегда выход в реальный мир. А реальный мир не такой понимающий, как твой терапевт. В реальном мире можно получить отказ. Можно потерпеть неудачу. Можно выглядеть глупо.
Говорить о страхе публичных выступлений – это одно. А выйти на сцену перед аудиторией, чувствуя, как потеют ладони и дрожат колени, – это совсем другое. Анализировать причины своей социальной тревожности – это интеллектуальное упражнение. А пойти на вечеринку, где никого не знаешь, и попытаться завязать разговор – это физическое испытание.
Перемены – это не инсайт в голове. Перемены – это новое поведение. Это новые нейронные связи, которые нужно буквально протаптывать в своём мозгу, как тропинку в густом лесу. Сначала это трудно, неуклюже, энергозатратно. Старые привычки тянут назад. Мозг кричит: «Вернись на знакомую, широкую дорогу! Зачем тебе этот бурелом?». Проще остаться в кресле и размышлять о том, как было бы здорово гулять по новым тропинкам. Терапия становится таким размышлением. Это генеральная репетиция спектакля, премьера которого никогда не состоится. Потому что для премьеры нужно выйти на сцену, под свет софитов, на суд публики. А в репетиционном зале так спокойно. И партнёр-терапевт всегда подыграет.
Любое новое действие ломает привычный телесный паттерн. Если ты привык сутулиться и прятать взгляд – расправить плечи и посмотреть человеку в глаза будет физически трудно. Если ты привык говорить тихо и извиняющимся тоном – заговорить громко и уверенно потребует реального мышечного усилия. Это работа. Настоящая, физическая работа. Гораздо проще заплатить деньги, чтобы час в неделю жаловаться на свою сутулость и тихий голос, чем каждый день, каждую минуту помнить о том, что нужно держать спину прямо и говорить отчётливо.
Пятая, и, возможно, самая горькая выгода – это сохранение надежды на чудо. Пока ты в терапии, пока ты «в поиске», у тебя есть надежда. Надежда на то, что однажды найдётся тот самый ключ. Та самая первопричина. Та самая волшебная фраза от терапевта, которая всё изменит. Ты в режиме ожидания спасения. Ты ждёшь, что придёт кто-то (терапевт, гуру, новый партнёр) и спасёт тебя от самого себя. Эта позиция ребёнка, который ждёт взрослого. Она очень инфантильна, но очень сладка. Она снимает необходимость спасать себя самому.
Признать, что никакого чуда не будет – это повзрослеть. Это посмотреть в лицо суровой правде: никто за тебя твою жизнь не проживёт. Никто не придёт и не починит тебя. Нет никакой волшебной таблетки. Нет никакого секретного знания. Есть только ты. И череда маленьких, ежедневных, часто скучных и трудных выборов. Выбрать встать с дивана, а не лежать. Выбрать сделать зарядку, а не скроллить ленту. Выбрать съесть здоровую еду, а не заказывать пиццу. Выбрать сделать сложный звонок, а не отложить его на завтра.
Счастье и здоровая жизнь – это не фейерверк, а результат монотонного, ежедневного труда. Это как чистить зубы. Ты не ждёшь от этого восторга. Ты просто делаешь это каждый день, чтобы твои зубы были здоровы. Так же и с психикой. Её здоровье – результат ежедневной гигиены: гигиены мыслей, гигиены поступков, гигиены окружения.
Отказаться от надежды на чудо – значит оплакать свои детские иллюзии. Это процесс горевания. Процесс прощания с верой в доброго волшебника. И это больно. Гораздо приятнее жить в предвкушении чуда, даже если оно никогда не наступит. Это предвкушение само по себе становится смыслом. «Я ищу себя», «я в духовном поиске», «я в глубокой проработке» – это красивые названия для процесса ожидания. Но ожидание – это не жизнь. Жизнь – это то, что происходит, пока ты ждёшь.
Терапия стала храмом для этой новой религии ожидания. Ты приходишь, приносишь в жертву деньги и время, исповедуешься в своих «грехах» (паттернах и травмах) и получаешь временное отпущение. Но ты не меняешь своего образа жизни. Ты просто покупаешь право продолжать жить так же, но с меньшим чувством вины. Ты не решаешь проблему. Ты учишься с ней комфортно жить. Ты обставляешь свою клетку удобной мебелью, вешаешь красивые занавески, ставишь вазу с цветами. Но это всё та же клетка. Ты просто перестал замечать прутья. Или, что ещё хуже, ты назвал эти прутья «особенностями своей личности».
Ты выучил язык психологии и теперь используешь его как щит. Любую претензию мира или себя самого можно отбить умным термином. «Почему ты не можешь построить здоровые отношения?» – «У меня избегающий тип привязанности». «Почему ты сидишь на нелюбимой работе?» – «У меня выученная беспомощность». «Почему ты опять сорвался?» – «Это ретравматизация». Звучит солидно. Научно. И напрочь убивает любую мотивацию к действию. Зачем действовать, если у тебя диагноз? Ты болен. А больным положен покой и лечение. А лечение – это разговоры. Круг замкнулся.
Ты превратил свой внутренний мир в музей. Музей своих травм, обид и разочарований. Ты водишь по нему экскурсии для своего терапевта, для друзей, для самого себя. Вот этот экспонат – «мама в детстве не обняла». А этот – «первая любовь предала». А вот целая инсталляция под названием «токсичный коллектив». Ты знаешь историю каждого экспоната. Ты сдуваешь с них пыль. Ты бережёшь их. Потому что без этих экспонатов твой музей будет пуст. А ты – смотритель этого музея. Это твоя работа. Твоё призвание.
Но жизнь – она не в музее. Она там, за дверями. Там, где ветер, дождь, солнце. Где можно споткнуться, упасть, разбить коленку. Где можно встретить кого-то нового. Где можно построить что-то своё, а не только хранить старое. Выйти из музея страшно. Потому что там всё живое. Непредсказуемое. И не такое уж уникальное. У всех свои ушибы и шрамы. Но одни превращают их в музейные экспонаты, а другие – просто живут дальше, и шрамы становятся частью их кожи, частью их силы, а не центральным элементом выставки.
Посмотри честно. Не стала ли твоя терапия просто ещё одной формой прокрастинации? Прокрастинации жизни. Ты «готовишься» жить. Ты «разбираешься с собой», чтобы «потом» начать жить. Но это «потом» никогда не наступает. Потому что всегда найдётся ещё один слой, ещё одна проблема, ещё одно воспоминание, которое нужно «проработать». Это бесконечный процесс. И он выгоден всем. Тебе – потому что ты можешь ничего не делать. Терапевту – потому что у него есть постоянный клиент. Твоему окружению – потому что ты остаёшься удобным и предсказуемым.
Система работает идеально. Единственный, кто проигрывает – это ты. Тот настоящий ты, который заперт под всеми этими слоями диагнозов, концепций и историй. Тот, кто просто хочет жить. Дышать. Чувствовать. Делать. Любить. Рисковать.
Эта книга – не против психотерапии как инструмента. Скальпель – отличный инструмент в руках хирурга. Но им можно и просто ковыряться в ране, не давая ей зажить. Вопрос не в инструменте, а в том, как ты его используешь. Используешь ли ты его, чтобы вскрыть нарыв, очистить рану и пойти дальше? Или ты используешь его, чтобы снова и снова бередить больное место, восхищаясь его глубиной и сложностью?
Меняться невыгодно, потому что это требует честности. Той самой, от которой мороз по коже. Честности признать: «Моя жизнь – это результат моих выборов. Даже выбор ничего не выбирать – это мой выбор». Это требует мужества. Мужества отказаться от привычных ролей и историй. Мужества встретиться с пустотой внутри и начать заполнять её не жалобами, а действиями. Это требует смирения. Смирения с тем, что ты не уникальная снежинка со сложнейшей душевной организацией, а просто человек. Такой же, как миллиарды других. Со своими страхами, желаниями и правом на счастье. И это право никто тебе не даст. Его можно только взять.
Так что да, терапия может быть самым уютным, самым дорогим и самым респектабельным прикрытием. Прикрытием для главного страха – страха жить. Страха взять штурвал в свои руки и понять, что ты плывёшь в открытом океане, и кроме тебя, вести этот корабль некому. Можно, конечно, сидеть в каюте, изучать карты и жаловаться на шторм. А можно выйти на палубу и начать крутить этот чёртов штурвал.
И вот ты сидишь. С этим знанием. С этим пониманием. С этой усталостью. И в воздухе висит всего один вопрос. Не «почему всё так?». Ты уже знаешь ответ. Вопрос другой.
Что ты будешь с этим делать?
Глава 1. С тобой всё в порядке – просто это не твоя жизнь
«Я в процессе». Скажи, ведь это твоя любимая мантра? Твоя визитная карточка. Твой универсальный ответ на все неудобные вопросы, которые задаёт тебе жизнь, другие люди и, что самое страшное, ты сам себе в три часа ночи. «Почему ты до сих пор один?». «Я в процессе». «Почему твоя карьера не движется?». «Я в процессе». «Почему ты снова сорвался, накричал, напился, убежал?». «Ну что ты хочешь, я же в процессе».
Это звучит солидно. Уважительно. Почти как научный титул или знак принадлежности к элитному клубу. Клуб тех, кто «в теме». Тех, кто «осознаёт». Тех, кто не просто живёт свою жизнь как придётся, а глубоко её анализирует, препарирует, раскладывает на составляющие. «Я в процессе» – это пароль, который открывает двери в мир понимающих кивков и сочувственных взглядов. Это щит, отражающий любые упрёки. Это мягкая, тёплая, уютная колыбель, в которой ты можешь лежать годами, рассказывая себе и другим о том, как усердно ты готовишься однажды из неё выбраться.
Это самый изощрённый и самый респектабельный самообман нашего времени. Самообман, за который ты платишь деньги, время и, самое главное, свою единственную, настоящую жизнь. Ты покупаешь абонемент в лучший фитнес-клуб для души, но вместо того, чтобы потеть на тренажёрах, ты сидишь в раздевалке и с умным видом рассуждаешь о биомеханике приседаний. Ты знаешь всё о правильной технике. Ты можешь прочитать лекцию о важности протеина. Ты можешь даже дать совет новичку. Но твои мышцы атрофируются. Твоё тело остаётся дряблым. Твоя жизнь остаётся прежней.
Давай посмотрим в глаза этому феномену. Без осуждения, без насмешки. Просто с холодной ясностью хирурга, который смотрит на снимок. Вот она, опухоль. Красиво названная, бережно лелеемая, но всё же опухоль. Она называется «процесс», и она пожирает твоё настоящее.
В чём притягательность этой фразы? Почему она стала такой популярной? Потому что она даёт тебе идеальное алиби. Алиби на жизнь. Пока ты «в процессе», с тебя взятки гладки. Ты не несёшь полной ответственности за свои неудачи. Ведь ты не просто провалил собеседование, ты столкнулся со своим синдромом самозванца. Ты не просто боишься познакомиться с кем-то, у тебя активируется травма привязанности. Ты не просто ленишься, у тебя прокрастинация, уходящая корнями в детские установки. Звучит сложно. Научно. Глубоко. И, самое главное, это снимает с тебя необходимость делать что-то простое и конкретное прямо сейчас. Зачем готовиться к собеседованию, если надо сначала «проработать» самозванца? Зачем идти на свидание, если нужно исцелить «внутреннего ребёнка»?
«Процесс» превращает твою жизнь из поля для деятельности в лабораторию для исследований. Ты не участник, ты наблюдатель. Ты стоишь в белом халате и с планшетом в руках, записывая наблюдения за подопытным. А подопытный – это ты сам. «Ага, – записываешь ты, – при виде сложной задачи подопытный демонстрирует реакцию избегания. Интересно. Нужно будет обсудить это на следующей сессии». И ты так увлекаешься этим исследованием, что забываешь: жизнь – это не эксперимент, который можно поставить на паузу, проанализировать результаты и запустить заново. Она идёт. Прямо сейчас. Пока ты стоишь в своём воображаемом халате, она проходит мимо. Уходят возможности, уходят люди, уходит время.
«Я в процессе» – это индульгенция нового века. Ты приходишь к своему терапевту, как на исповедь. Ты рассказываешь о своих «грехах» – паттернах, срывах, слабостях. Тебя выслушивают. Тебя не осуждают. Тебе дают «отпущение» в виде понимания и сочувствия. Ты выходишь с чувством облегчения. Тебя поняли. Твой груз стал легче. Но ты не решил измениться. Ты просто получил разрешение продолжать быть таким же, но с меньшим чувством вины. Ты купил себе право на слабость ещё на одну неделю. Ты заплатил за то, чтобы не меняться.
Потому что меняться страшно. А «процесс» – это идеальный способ отложить этот страх на потом. Это вечное «потом». «Я начну новую жизнь с понедельника». «Я сяду на диету после праздников». «Я изменюсь, когда закончу терапию». Но этот понедельник никогда не наступает. Праздники не кончаются. А терапия – это процесс, который можно длить бесконечно. Всегда найдётся новый слой для проработки. Новое воспоминание. Новая травма. Это как чистить луковицу в надежде найти ядро. Но у луковицы нет ядра. Она состоит из слоёв. И ты можешь потратить всю жизнь, снимая эти слои, плача от горечи, чтобы в конце остаться с пустыми руками.
Твоя проблема стала твоим хобби. Твоим главным проектом. Ты вкладываешь в неё столько сил, столько внимания. Ты знаешь её в лицо. Ты можешь описать все её оттенки и нюансы. Ты мог бы защитить по ней диссертацию. Ты стал экспертом по собственному несчастью. И в этом есть извращённое удовольствие. Это делает тебя особенным. Твоя история – это не просто череда ошибок и неудач. Нет. Это сложный, многогранный кейс. Это драма. А ты в ней – главный герой. Трагический, непонятый, борющийся. И пока ты играешь эту роль, ты чувствуешь свою значимость. А что будет, если драма закончится? Если ты решишь проблему? Кем ты станешь? Просто человеком, у которого всё в порядке? Это звучит так… скучно. Так обыденно.
Страх стать обычным, простым, «как все» – вот что питает твой бесконечный «процесс». Лучше быть интересно несчастным, чем скучно счастливым. Так тебе кажется. Несчастье даёт тебе глубину. Страдание облагораживает. По крайней мере, так принято думать в вашем клубе. Счастливые люди кажутся поверхностными. У них, наверное, просто не было твоих «глубоких травм». Они просто не так «осознанны». Ты смотришь на них с лёгким снисхождением. Они не знают той «правды», которую знаешь ты. Правда в том, что ты построил себе уютную, хорошо обставленную тюрьму из психологических концепций и теперь боишься выйти из неё на свободу. Потому что на свободе – ветер, неопределённость и ответственность. А в твоей камере – всё знакомо, предсказуемо и всегда есть на кого свалить вину за своё заключение.
«Процесс» становится формой интеллектуальной мастурбации. Ты получаешь удовольствие от самого копания в себе, от инсайтов, от моментов «озарения». «Ааа, так вот почему я так делаю! Это всё потому, что в пять лет мама…». И вот он, момент сладкого облегчения. Ты что-то понял. Ты соединил точки. Но что изменилось? Ты перестал это делать? Нет. Ты просто нашёл красивое объяснение своему бездействию. Ты не решил проблему. Ты повесил на неё красивую этикетку. Теперь это не просто беспорядок в комнате, это «творческий хаос, отражающий сложность моей натуры».
Ты превращаешь живую, дышащую боль в засушенный гербарий. Вот «обида на отца». Вот «страх отвержения». Вот «комплекс неполноценности». Ты аккуратно раскладываешь их по страницам своего альбома, подписываешь умными терминами и показываешь терапевту. Вы вместе любуетесь твоей коллекцией. Какая богатая коллекция. Какой ты сложный и интересный экземпляр. Но гербарий – это мёртвые цветы. А твоя боль была живой. И пока она была живой, она была сигналом. Сигналом, что что-то идёт не так. Что нужно что-то менять. Она была энергией. А ты взял эту энергию и засушил её. Превратил в музейный экспонат.
Теперь ты водишь экскурсии по этому музею. Для друзей, для партнёров, для самого себя. «Посмотрите налево – это моя неспособность доверять людям. Она возникла в результате…». «А теперь пройдёмте в следующий зал. Здесь у нас инсталляция под названием «токсичные отношения». Обратите внимание на тонкую работу…». Ты стал хранителем своего собственного страдания. Это твоя работа. Твоё призвание. И она отнимает у тебя все силы. Силы, которые могли бы пойти на то, чтобы выйти из музея, запереть дверь и пойти гулять под настоящим дождём.