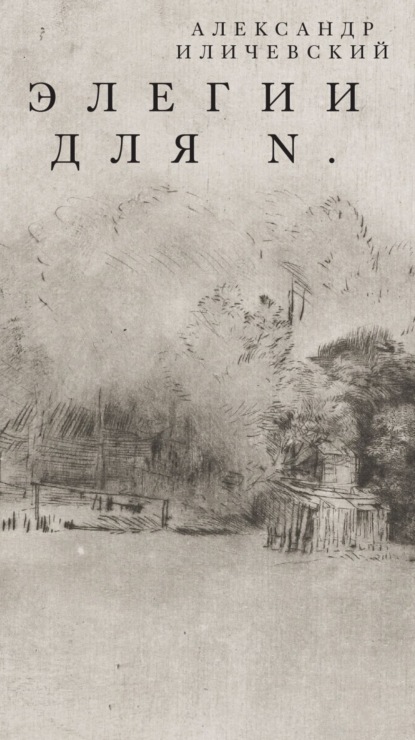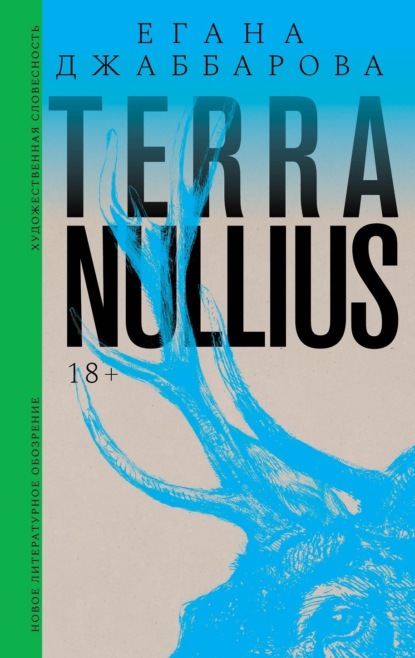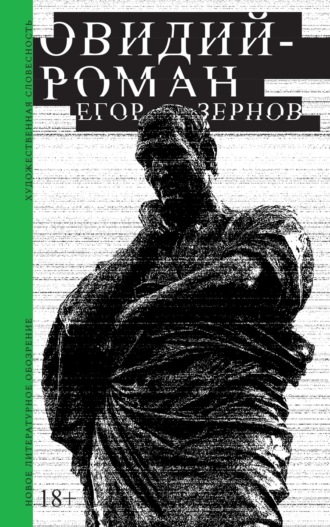
Полная версия
Овидий-роман
Но это все не имеет ничего общего с тем, как ты бедрами контролируешь мои бедра, напоминая себе и мне, что сейчас мы никуда не денемся, что, если никто не произнесет за нас, раздавленных, эту невнятную молитву, мы все еще можем надеяться на последнюю нежность, что вручит оружие и выстрелит в наши головы нашими же руками.
Her.???
Прием, это X. То есть это я, X, пишу тебе письмо. Ну что, стало тихо? Замороженный конфликт работает по тому же принципу, что и пассивный доход: меньше движений и шума, больше цифр. Может, ты уже стал статистикой. Так я учусь языку твоего владыки. У нас все так же: дорога до магазина, дорога до храма, прихожу в магазин за ответом, в храм за приобретением, на улице влажно и сухо, холодно и жарко, да какая, собственно, разница – всегда хуже, чем обычно. Мертвые листья и грязная земля. Пишу тебе это письмо своими руками, своими женскими руками, которые пишут это письмо прямо сейчас, то есть которые держат шариковую ручку, карандаш, стило, клавиатуру, пишу, как пишут прозу – это процесс постоянного упрощения. Поскребу по сусекам, повысасываю из пальца, растекусь чем попало по древу, размажу сопли по бумаге. Иногда письмо, то есть уже не письмо, а письмо – не то, что отправляют, а то, что длится, иногда письмо прекращается, и в моем рту, а я пишу с голоса, чтобы ты слышал, в моем рту что-то пересекается, пресекается, я не могу даже сглотнуть, как будто встал у горла какой-то ком, не то что ком, но что-то прозрачное, овальное, неосязаемое, оно торчит и все, такой рыбий пузырь, ты его достаешь, нагреваешь зажигалкой, и он затвердевает до каменного состояния, а внутри даже нет ничего, мутно. Я достаю этот пузырь изо рта и кричу, в себя ничего не проталкивается, только вовне, то есть и кричу я как не в себя. И смотрю я на твои фотографии в своей голове: ты, муж, мужчина, Y, стоишь, например, с мертвой рыбой в руках, такой водянистый сом, лещ, карп с раскрытой глоткой, а твоя глотка перекрыта зубастым таким оскалом, и этот твой оскал, и эта глотка, ненамеренный face-swap, тупое озеро, размывающее взгляд, и формат пережатый весь, разрешение, качество, я удаляю это фото из себя, но как бы не прожимается кнопка для очищения корзины, могу только поплевывать туда издалека – до того мне противно. Следующее фото – в каком-то заброшенном здании, но так кажется только на первый взгляд, ведь никакое оно не заброшенное, оно разрушенное, ошметки вокруг, какая-то бумага, пенопласт, бетон, штукатурка, а ты стоишь с автоматом наперевес, лицо твое на этот раз скрыто не оскалом, а смайликом – там то ли фиолетовый чертик с ухмылкой, то ли желтый пупс с забинтованной головой, и эта твоя поза расхлябанная, и помещение перевернутое с ног на голову, и смайлик этот – так обычно закрывают совсем маленьких младенцев в социальных сетях, чтобы не сглазили, но они-то еще не фиолетовые и не чертики, хотя кто их, малолетних, знает – ты это все делаешь для «безопасности», и от тебя это слово слышать, как пережевывать оскорбление. Кстати, очень мне нравятся твои ласковые слова, которые я ношу теперь, как жемчужное ожерелье – матовое, мутное, как озеро и как ошметки пространств. Я как бы тварь, я гадюка, я стерва, змея – все слова, которые ты мне дарил, чтобы что? Чтобы по-настоящему быть мужчиной, чтобы не ущемлять в себе мужское, чтобы скрепить наши отношения вдавливанием всего этого ТВОЕГО на все это МОЕ, женское, чтобы напомнить мне, где мое место, чтобы выебать себя в рот. И вот я стою в этом непроглядном ожерелье, неприглядная, а ты на этом фото так и отражаешься, неотразимый, так и пребываешь, прибыл когда-то и не убыл уже, а я, пока ты воюешь, я не воюю – я воооооооюююююююю.
Так вот, надо бы рассказать подробнее, что тут у меня происходит, а происходит ровным счетом ничего, пока ты с неба сбиваешь звезды, пуговицы, шевроны. Все всегда хуже, чем обычно. Ну, допустим, Джек Уайт и Мег Уайт разбивают бутылки о головы, ломают гитары, барабанные установки, перепонки, синтезаторы, орут и разводятся прямо у меня в квартире. Она в красной футболке, он тоже в красной. Они после этого садятся за стол, мирятся, пьют кофе в монохромной обстановке, задумчиво курят Мальборо, обсуждают электрические катушки и физику, что-то идет не так, и они снова бьют посуду, натравливают друг на друга киллеров, а именно семейную пару, мужа и жену из соседнего дома, которые убивают друг друга, не выполнив заказы, что уж там говорить о деньгах. Джек Уайт и Мег Уайт подают на развод, пока играют концерт длиной в одну ноту. Откуда они могли знать, что на том самом концерте, а именно в 2007 году, в маленьком городе со странным названием, которого я уже не помню, присутствовал Данила Козловский в роли известного революционера-анархиста: быть может, они бы вложили больше страсти в эту последнюю долгую ноту, еще долго звеневшую в ушах и зависшую, как оказалось, над головой Данилы Козловского, которому затем приходилось долго ходить с вжатой в плечи головой, как будто нависла над ним не какая-то последняя лебединая нота, а тяжелый шар для боулинга в своем бессрочном падении, но он все еще мог напевать песню про dead leaves and the dirty ground, хотя онлайн-премьеру собственного сериала пришлось проигнорировать. Когда этот сериал увидел Владимир Ленин, а он именно тогда сидел в «Кабаре Вольтер» и играл в шахматы с Тристаном Тцарой, он сказал, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, поэтому поручил своему другу Сергею снять фильм «Октябрь», разделивший мировую историю на до и после. До этого люди смотрели на экранное прибытие поезда в электротеатре и разбегались по сторонам, будто поезд действительно едет на них, а теперь, посмотрев фильм об Октябрьской революции, люди автоматически шли делать Октябрьскую революцию, будто она действительно началась. Американский журналист приезжает на место разлома, видит людей, с чем они там стоят: с вилами, копьями, факелами, дубинками, журналист пишет об этом статью и замечает, что, конечно, дело не обошлось без любви, во всем этом замешана какая-то любовная история, которая остановит междоусобицу, а междоусобица, конечно, всегда страшнее, чем конфликт международный, ведь в первом случае убивают своих, а во втором не своих, других каких-то, чужих, и лица у них неясные, и слова, и помыслы, а любят они совсем по-другому. Так вот, любовь тут явно была замешана, пишет американский журналист в конце своей статьи, которая слишком скоро перерастает в экзотичную книгу с названием, вроде ДЕСЯТЬ МИНУТ/ДНЕЙ/ЛЕТ КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР, а завершающие слова там были убедительны и про любовь, которая это все дело начала и закончила. Кстати, о начале и конце: естественно, вся эта история подняла ненормальную шумиху, и поползли слушки, откуда это все пошло, где эта история началась. Кто-то говорил про слово, кто-то ссылался на Гераклита, согласно которому именно война – это начало всего, это отец/жрец/на дуде игрец, кто-то говорил про белый венчик из роз, стоящий как бы во главе всего дела. Не знали они, что именно из моей квартиры эта сумятица и вытекла, хотя, впрочем, туда-то и потянулись все вышеупомянутые, стоило взяться за дело профессионалам. Итак, Джек Уайт и Мег Уайт снова заходят в мою квартиру, на их пальцах кольца с гравировкой NEVER MORE, они стоят по разным углам моей комнаты и смотрят на меня, ничего не говоря. Происходит ровным счетом ничего, пока Данила Козловский тоже тянется через входную дверь, уже с прямой спиной, с разжатыми плечами, он тоже стоит, ничего не говоря, и на меня смотрит. За Козловским, который все еще не вышел из роли известного анархиста-революционера, проходит Владимир Ленин вместе со своими двойниками: Никандровым, Щукиным, со всеми, кроме Стычкина – ему поручили остаться в мавзолее. Все эти люди стоят и смотрят на меня, ничего не говоря. Сергей Эйзенштейн, Тристан Тцара, Джон Рид и т. д. – они явно оставили все свои разговорчики за дверью, ведь, пока они стоят в моей квартире, они ничего не высказывают, звуков не издают и на меня смотрят. Гераклит и Александр Блок уже не нажимают на круглый звонок, что вырван с мясом, они просто стоят за дверью и молчат, зная, что я выглядываю периодически на лестничную клетку, чтобы узнать, кто там стоит. Я делаю это по два раза каждой ночью, регулярно, как принимают таблетки, ведь в моих кошмарах ночь заливает уши пустынным и странным гулом, намекающим на сон всего дома (одна мысль об этом пугает), я концентрирую все свое внимание на этом гуле и думаю, что было бы безумно страшно, окажись в подъезде ты, Y, смотрящий безмолвно в глазок, тогда я сама смотрю в этот самый глазок и невольно плачу от ужаса, ведь вижу там тебя, пририсованного к тупому и плоскому изображению соседской двери напротив. Но это сны, ведь сейчас там стоят Гераклит и Александр Блок, они заходят в квартиру, останавливаются и устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря. Что-то идет не так, когда один из вышеупомянутых, имя и лицо которого я не помню, но могу заверить, что это кто-то из названных, один из них подошел ко мне, дотронулся до плеча и сказал:
<нрзб.>
И вот я стою посреди всего этого одна, как стою посреди слез, посреди слов. Говорю с людьми, которым нечего мне сказать, и мне нечего им сказать. Вот такое не-говорение, такая тишина сильно давит на голову, влетает в нее или, как сказали бы, вставляет, действует. Я не пугаюсь, ведь интоксикация этой тишиной слишком напориста, она заливается в складки, в которых вырастает страх, если оставить их без внимания. Похоже на ощущение набитого живота, вызванное сильным голодом. А если у молчания этого есть губы, то я своими губами приближаюсь к ним на смертельно опасное расстояние, впритык стою и чувствую это мятное дыхание из ничего и из ниоткуда, но эта близость, в отличие от близости с человеческими губами и человеческим дыханием, которое пахнет табачно-перечным одеколоном и гречкой, эта близость ни к чему не обязывает – ни к инертному продолжению движения, ни к отторжению. Из этой точки я и говорю, из точки солнечного затмения на нашей свадьбе говорю, то есть я, мать твоя, дочь твоя, сестра твоя, которая ужас на что решилась, я жена твоя, Клитемнестра-дрянь, готовлю вооруженное нападение, восстание на тебя, жду, пока зажгутся костры, что сообщат о твоем приближении. Ты, вдоволь наубивавшись, наверняка едешь сейчас в бричке, бэхе, мерсе, плывешь на корабле, под рукой рыжая наложница, пророчица с кричащим ртом. Я задыхаюсь, теряясь в догадках, как именно ты нас друг другу представишь! Посадишь нас, допустим, в песочницу, полную снятых с мертвых пальцев колец, накладных ногтей, тканей, пахнущих недавно живыми телами, кожаных салонов угнанных автомобилей, слоновых костей, блистательных шлемов и щитов, не только заляпанных известно чем, но и пронумерованных белой замазкой для учета инвентаря, ты посадишь нас в эту песочницу и будешь пасти. Тогда я этими руками, этими женскими руками, что пишут сейчас письмо, утоплю тебя в своих подарках, ты будешь пускать пузыри со дна, голова закружится юлой по золотому блюду. Но что, как говорится, я слышу! Ты тут как тут, но не с рыжей пророчицей, а с отсутствующей ногой, и тебя уже жалко этими руками, этими женскими руками, ну, то самое и т. д. Песочница для меня, мой загон, в котором я была бы для тебя безопасна, полон вшей с униформы. Твое лицо – сплошная новостная сводка – ничего не выражает, ты, Агамемнон, Геракл, Улисс, Протесилай, Y, подходишь ко мне, дотрагиваешься до плеча и говоришь, что тебе за страну обидно.
Тогда я целую твои обескровленные пальцы, будто моей рукой пишет мужчина.
Я по-христиански тебя прощаю, будто моей рукой пишет мужчина.
Я заглядываю в твои глаза, приблизившись так плотно, что пахнет одеколоном и гречкой, будто моей рукой пишет мужчина.
Я иду в эти глаза, как шагаю через порог, будто моей рукой пишет мужчина.
Я бегу навстречу кипящей смоле, существам с вертикальными разрезами ртов, расцарапанному лицу луны, троящимся телам, будто моей рукой пишет мужчина. И далее по тексту.
Ars 0.0 [примечания]
Именно в этой точке стоит притормозить. То, что написано выше, будто осознанно уводит куда-то в сторону, ты даже можешь спросить, что это было. Хорошо, что всегда есть возможность оставить подробный комментарий.
Her.??? Все понятно. «Героиды» точка три вопросительных знака. Эта схема знакома и усвоена. Очевидная претензия на филологичность, но в этой части все немножко ломается! Падает рамка.
То есть это я, X, пишу тебе письмо… Постоянное желание пишущей указать на факт письма. Иногда даже кажется, что тот, кто все это наваял, а именно Публий Овидий Назон, пытается экзотизировать письмо исключительно указаниями на то, что оно женское. Это нам кажется проблематичным, как будто сплошная риторическая игра, способ поднять бровь слушающего.
Мертвые листья и грязная земля… Первая строчка песни «Dead Leaves and the Dirty Ground» группы «The White Stripes». Это текст о разлуке, о том, как он, бедный, смотрит по сторонам и видит мертвые листья и грязную землю, когда она не рядом. A когда она рядом, он, соответственно, видит, как сверкают крыши и как лопаются пузырьки в газировке, и все хорошо. Но нет! Никто не встречает героя песни, он возвращается домой издалека, а там no one to wrap my arms around. Исполнители – Джек Уайт и Мег Уайт, он в красной футболке, она тоже в красной.
…так обычно закрывают совсем маленьких младенцев… Не все родители щепетильно относятся к фотографиям своих детей в интернете. 22 % россиян публиковали фото своего ребенка, которому еще не было трех лет, не закрывая его лицо. Это выяснилось в ходе опроса 500 родителей из России, его провела компания Avast. С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы показать миру своих детей, а с другой – это может быть неприятно самому ребенку и даже опасно, считают эксперты.
Так вот, надо бы рассказать подробнее… – …устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря…Собственно, я свернул эту историю, потому что она, очевидно, ни к чему не приводит. То есть да, приходит мужчина за мужчиной, останавливается в комнате женщины, пишущей письмо, и смотрит на нее, ничего не говоря. Бесконечный поток образов, постоянная попытка посильнее ударить по западающей клавише фортепиано в школьном кабинете. Остается неясным, что там делает, например, Мег Уайт? Последняя фигура сопротивления, слившаяся с пейзажем в момент, когда встала в комнате и начала смотреть на X. Без Мег какая-нибудь критическая картинка проявилась бы четче, но она все еще стоит на месте и не собирается покидать помещение. Здесь можно вспомнить роман Эльфриды Елинек «wir sind lockvögel baby!», а можно не вспоминать. В любом случае, когда в тексте появились совсем уж невнятные Гераклит и Блок, удалось найти выход из всей этой медиавязи.
…один из них подошел ко мне… А вот и выход, о котором я говорю. Нечто укусило себя за хвост.
<нрзб.> Просто не очень слышно было.
Я не пугаюсь, ведь интоксикация этой тишиной слишком напориста… У американской музыкантки Билли Айлиш есть трек под названием xanny. В треке под названием xanny есть строчка: too intoxicated to feel scared.
…из точки солнечного затмения на нашей свадьбе…В «Героидах» Овидия это частый риторический ход – вспомнить совместное прошлое и использовать его либо в качестве обоснования наступивших бед, либо наоборот. Например, если в этом прошлом все было хорошо, героиня обращает внимание на контраст с несчастным настоящим. Если в прошлом есть отрицательное знамение, дурные знаки, все это обосновывает то, что происходит сейчас. Примерно так же работает мифомоторика, например, в государственных идеологиях (см. труды Я. Ассмана). Напоминает это и то, как Вальтер Беньямин в «Судьбе и характере» сравнивает понятие судьбы с обратным судебным процессом, когда человек подвергается наказанию и только потом пытается его проинтерпретировать, найти основание для наказания среди собственных действий в прошлом.
…но не с рыжей пророчицей… О бесславная развязка троянского цикла! Что же там с прозой, которой бредил автор, упоминая ГОМЕР-МАШИНУ, вред реконструкций, когда пишешь о нем? Этот разговор кончился так же бодро, как и начался. Кто-то видел римского поэта в кафе, в кофейне, на скамейке в парке, занятого выписыванием чего-то не в столбик, лоскутного, пестрого, и тогда он, как и подобает большому младенцу в складчатой тоге, быстро прятал написанное, кокетливо закатывая глаза и бормоча, что в этом нет ничего такого, он просто балуется, мотает куском одежды туда-сюда, смотрит в окно или дальше, через деревья, а под рукой у него рисунки, каракули, белиберда. И все-таки теперь совершенно ясно, что с горем пополам существовавшего Гомера вымыло экстатичными потоками текста, уже не нужно было и упоминать его имя, ведь он вышел на сцену в нужный момент, засветив лицо и дав своеобразный кивок этому заносчивому парню на скамье. Теперь этим засвеченным лицом или его отпечатком можно было просто вертеть перед глазами читателя, как флагом, чтобы утвердить право на свое существование среди букв или пустить пыль в глаза, пока не поздно.
…ты, Агамемнон, Геракл, Улисс, Протесилай, Y…Что-то заставляет субъектку упорно называть себя X, а его – Y. Шаблон, который автор применяет к каждому из посланий «Героид», истерся и достиг такой инерции, что индивидуальное имя вымывается. Теперь это Медея, Иола, Деянира, Пенелопа, Ярославна, Ариадна, Дидона, Юдифь, Ульрика, все они (и даже больше) собрались у стола и пишут письмо, которое последним взрывом прогремит в голове Агамемнона, Геракла, Улисса, Протесилая, Ахилла, Язона, Игоря, Энея (и многих других). Это в какой-то степени радует, но ровно до тех пор, пока не вспоминаешь, чьей рукой это на самом деле все выведено.
Тогда я целую твои обескровленные… Руки, руки, постоянно они торчат из каждого угла, а в момент написания этого фрагмента куда-то повело одну из них, прочь от автора. Про такие моменты говорят обычно – ускользнула из-под носа. Сначала она взлетела вверх, к шершавому потолку, к гладкому небу, потом упала вниз, к влажным парковым тропам, к нагретому столику. Потом и вовсе отяжелела и не хотела двигаться. Про такие моменты говорят обычно – золотые руки. При этом автор уже понимал, что это не то чтобы его рука, но это что-то чужое, другое, это ползущая рука из «Семейки Аддамс», нацистская рука из «Доктора Стрейнджлава», рука живая из «Зловещих мертвецов», из сцены, в которой Эш Уильямс с остервенением борется с десницей себя, пытаясь солгать ей, изобразить обморок, чтобы превратить ее в обрубок. Автор посылал импульсы в руку, чтобы вернуть контроль, но, не встретив рефлекса и наблюдая ее повторяющиеся автоматические движения, отпустил, кажется, все свое тело и позволил ему быть. Про такие моменты говорят обычно – мужик без рук. Эти руки снова перестали двигаться на несколько секунд и вцепились, как несложно догадаться, в горло автора. Через некоторое время ему захотелось забыть эту историю, эти руки, а также написанное ими, поэтому он взял лист и написал: Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕ РУКОТВОРНЫЙ.
Ars 1.1–30
Кажется, Публий Овидий Назон посещает нас все с меньшим желанием. То есть сам Овидий, его ты различаешь по взгляду – это взгляд особо непримечательный, ничем от прочих не отличающийся, ему нельзя подражать, а повторяя его, то и дело сбиваешься на что-то другое. Так вот, сам Овидий будто бы влетает на отдельные секунды в помещение, чтобы заявить о себе – это происходит неуместно и гордо, неприлично. Иногда это даже ничего не значит, он как бы оператор всей этой истории, который непрерывно документирует процесс, но периодически направляет камеру на свое лицо или, не направляя, пытается свое лицо впихнуть в кадр. Он может ничего не рассказывать, просто крикнуть: SUM. Ну, то есть Я, то есть ЕСМЬ, ego здесь не нужно, особенность языка. Прямо сейчас можно увидеть это улыбающееся рыло, которое и выступает рамкой всего его письма. Условная «Наука любви» как роман в стихах о поэте.
Эдвард Блоджетт пишет в своей работе об Ars Amatoria так: Рассказчик Овидия – это клоун, ставший фокусником, [любовные] наставления/предписания которого выполнены в первую очередь ради привлекательности для публики. Как только толпа оказывается привлечена, задача рассказчика – начать разыгрывать/выражать самого себя [to act himself out]: делая так, он приглашает публику увидеть искусство как жизнь и, предвосхищая барочный стиль, театр как жизнь. Такая постановка для классической литературы, как мне известно, была в некоторой степени новой, и присутствие подобной фигуры в «Науке любви» придает тексту значение, которое стилистически превосходит дидактическую поэзию и любовные элегии предшественников.
Это особая зараза, которая заставляет его как бы высасывать из людей внимание на любых собраниях, праздниках, встречах, чужих днях рождения. Он говорит с тобой, будто заинтересован в тебе, но в один момент что-то ломается, и его несет. С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ, шатаясь и прислоняясь плечом к стене, он рассказывает тебе о том, что задумал сделать и никогда не сделает, он пропитывает тебя любовью к несуществующему проекту. НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО ОГНЯ, говоришь ты, кормишь его SUM, ну, то есть Я, то есть ЕСМЬ, ego здесь не нужно. Теперь он может со спокойной душой напиться до поиска пятого угла, и ты умиляешься его разорванному рвотой лицу, прислоненному к унитазу, или он, скорее, стоит с согнутыми ногами у раковины, собрав на ее белом краю весь свой вес. Он иногда умывается холодной водой, но постоянно держит руку под струей, которая должна как бы возобновлять кровоток в теле, черепная коробка от этой стимуляции будто запотевает изнутри. Потом он дрожит, сидя в ванне, в голове проносятся потенциальные мигалки скорой, может, еще полицейских машин по случайной метонимии света и звука, что наводит ужас, пока двери кругом мотаются вокруг своей оси так быстро, что он не успевает и клочка человека поймать в этих мышеловках. Они мотаются, эти двери, и хлопают, еще одна метонимия, и хлопки переходят в грозный и звучный грохот по обитой кожей двери – так ломятся менты. Клоун, ставший фокусником, гусеницей ползет из ванной комнаты на кухню, сокращая и выпрямляя все свое тело, выталкивая из кончиков пальцев на ногах звуковые галлюцинации, и ты ухаживаешь, несешь ему стакан за стаканом, предоставляя новый материал для acting himself out. Вот ты и собрался, пригласился на событие с ним, в котором ему нечего сказать, но он может еще немного повыгибаться гусеницей и поулюлюкать служебной сиреной, а так называемый контент, песня, текст – все это выступает предлогом для проживания на твоих глазах, для тела-иероглифа. Он просто случается и стучит. Повернешь голову назад, там окно, которое снова такой же предлог для истории, как обычно, чернота подсказывает три часа ночи, то есть это глубокое время в сутках, когда соображаешь скверно, но думается, что сейчас протекает момент, когда любое дело идет, и идет хорошо, это «просветление» прикладывает два пальца к небу, разводит их в разные стороны, приближает изображение, чтобы различимы были слова, вроде tomorrow cums today, сопровождаемые музыкой, идущей с другой стороны, снизу, что придает необходимый объем этому месседжу.
Сейчас, а именно наутро, можно сказать что-то другое. Проспавшийся Публий Овидий Назон говорит об антидидактическом характере своего письма. Меня, то есть Публия Овидия Назона, ты можешь по инерции называть пророком (vates) с поправкой на то, что я vates peritus – пророк умелый, знающий. Речь моя исходит не из божественного бреда, но из частного опыта. Я щекочу всего себя словом ПАРАДОКС, соединяя любовь и науку, язык пророчества и язык быта, я пишу инструкцию в стихах, но ничему не учу. Я диверсант, подкрадывающийся к младенческой фигуре Амура с большой головой, целую его в обшарпанные щеки, сообщая незнакомый ему вирус, мое дыханье у его щек репетативно и навязчиво, как фрикции, не успевает он осознать свою новую болезнь, как я дарю ему последние объятия, и во что это уперся нож в моей руке. Вот так я пишу, вот так вытворяю, я при Амуре своем – Тифий и Автомедонт. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, интенсивнее всего разыгрываемая в машине заметного Obersturmbannführer, через мгновение погибающего, а через СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ, что пахнут непривычно долгой сценой в лесу, в таком же лесу стою я – без слов, без выкрутасов. Выразительнее всего, а точнее – адекватно себе я выгляжу, когда просто молчу в кадре, выгляжу тихо-тихо, как Тихонов. Сижу в кафе и смотрю в твои ускользающие глаза, будто в небо Аустерлица, ты не сразу узнаешь меня, ведь я курю необычайную для себя цигарретку, сижу, одетый в униформ традиционного поэта, и я, конечно, традиционный поэт, выкручивающий жанры, которых касаюсь своей ханд, до крайней отметки, когда традиция вытекает из носа вместе с кусками полупереваренной еды, превращаю воду твоего стакана в кровавое вино. Что же, время писать дидактические поэмы! Не являлись мне музы, не снисходило божественное вдохновение, ведь вдохновение приходит только за работой, я не чувствовал дрожания ауры вокруг себя, ведь еще не сталкивался с инсультом, дирижабль не расширял гортань, не призывал к священной жертве Аполлон, я не Дао, не Логос, не гармония, и так далее, это уже слишком понятно. Теперь Ars Amatoria – это исключительно каталог намеков и жестов, из которых наша с тобой любовь и соткана. Книга с прозрачной обложкой, отталкивающей, как воду, всякую попытку научить и рассказать, как надо на самом деле.