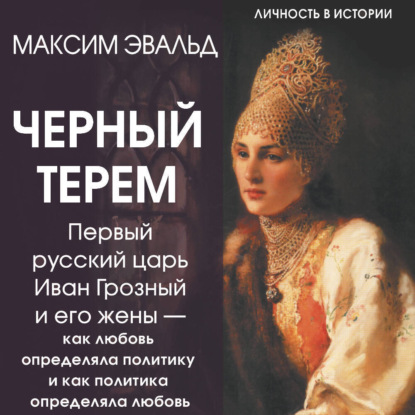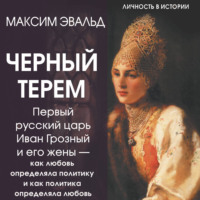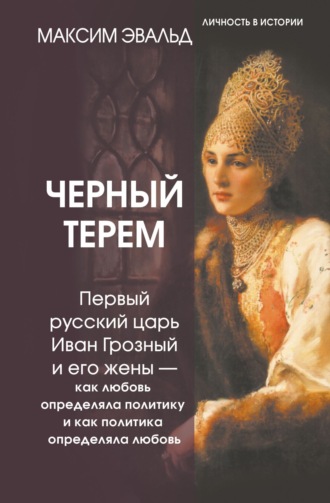
Полная версия
Черный терем. Первый русский царь Иван Грозный и его жены – как любовь определяла политику и как политика определяла любовь

Максим Юрьевич Эвальд
Черный терем
Первый русский царь Иван Грозный и его жены – как любовь определяла политику и как политика определяла любовь
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Эвальд М., 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
В 2025 году исполняется 495 лет со Дня рождения первого русского царя Ивана Васильевича Грозного. Этот правитель по праву считается одной из самых сложных и даже скандальных фигур в истории России. Но, вспоминая царя, чаще говорят все-таки о его политике: завершении объединения Руси, реформах Избранной Рады, опричнине, неудачной Ливонской войне, куда более удачных походах на Казань и Астрахань, противостоянии боярам…
Лишь в последние десятилетия серьезный научный интерес получила другая сторона жизни царя: его семья, его жены. И не зря, ведь семейная жизнь Ивана IV Васильевича – феномен российской истории. Ни один монарх после него не состоял в таком количестве браков (фаворитки не в счет). Да и его предшественники – великие князья Московские – на его фоне отличались редким целомудрием, ограничиваясь максимум тремя супругами.
Конечно, о женах Ивана Васильевича писали и в минувших столетиях, но в основном как-то между прочим, без глубокого погружения. Современники Грозного уделяли особенно мало внимания его супругам, сообщали чаще всего лишь общие сведения. Их можно понять: ну не принято было всерьез интересоваться монаршими женами на Руси! Женщина, даже великая княгиня или царица, не считалась столь значимой фигурой, чтобы посвятить ей более-менее серьезный биографический труд.
Это сильно осложняло работу более поздних историков, которые готовы были писать о женщине подробнее. А уж современным исследователям еще труднее: почти полтысячелетия отделяет их от тех времен, и за эти столетия много данных было утрачено безвозвратно, а факты обросли толстым «культурным слоем» из слухов, мистификаций и противоречий.
И все-таки история браков Ивана Грозного – необычайно интересная тема, и усилия по ее изучению окупаются с лихвой. А интерес представляют отнюдь не только личные отношения царя с его избранницами (вот об этих самых отношениях мы как раз знаем меньше всего: что происходило в царских покоях, там и осталось). Нет, исследовать супружескую жизнь данного государя – это значит с головой окунуться в мир XVI столетия, увидеть разные аспекты жизни Руси того времени: внешне- и внутреннеполитический, социальный, духовный и даже психологический. И каждый новый брачный союз Ивана Васильевича проливает свет на один или несколько этих аспектов.
Вот почему автор этой книги рад внести свой посильный вклад в изучение данной темы. С одной стороны, я делюсь скрупулезно собранными мной подробностями жизни избранниц Ивана IV – всем, что смог найти и что представляет интерес и ценность. С другой – стараюсь исправить некоторую историческую несправедливость: исследовать не просто несчастливую судьбу этих женщин, но и их значение для истории – то есть то, о чем не так уж часто говорят в связи с эпохой Грозного.
Речь пойдет о той роли, которую каждая царица – прямо или косвенно – сыграла в событиях того времени, какие сложные и тонкие механизмы запускал каждый новый брачный союз государя, как писалась история страны. Изучая его супружеские драмы, мы погружаемся в запутанный мир заговоров и интриг, знакомимся с обстановкой при дворе и внешнеполитической ситуацией, исследуем роль боярства и духовенства, социальное положение женщины тех времен и постигаем внутренний мир самого царя Ивана IV, грани его непростой личности.
Конечно, многие события тех лет окутаны тайной. До сих пор даже точное число жен Ивана Васильевича не установлено; непонятны обстоятельства смерти некоторых супруг, нюансы их отношений с царем и его окружением. Но то наследие, что оставили нам историографы прошлого, бережно систематизировано и изложено в этой книге.
Часть первая: Личность царя и исторический контекст
Иван Грозный был женат, по разным источникам, шесть, семь или восемь раз[1]. Один за другим его браки рушились по разным причинам, но царь упорно продолжал искать семейного счастья – либо, если взглянем на дело более прозаично, – потворствовать своим прихотям.
Почему же первый царь всея Руси так часто терпел фиаско на семейном поприще, но, едва лишившись очередной жены, спешил вновь связать себя брачными узами?
Причин много, но главных две. Первая – личность самого Ивана Грозного, склад его характера, его взгляды. Вторая – окружение царя и внутригосударственная ситуация. Браки монархов были и остаются вопросом не только личным, но и политическим. И приближенные Ивана Васильевича нередко использовали женщин как пешек в своей «игре престолов», способствуя заключению или расторжению очередного союза.
Поэтому, прежде чем перейти к истории каждой жены государя (включая неподтвержденных супруг), мы хотим остановиться на личности самого царя. Затем заострим внимание на обстановке при дворе Ивана IV и на сложившихся вокруг него сферах влияния. Ну а после познакомимся с положением женщины в эпоху Грозного, с ролью и обязанностями жены – в том числе царской жены.
1. Детство Ивана IV и становление его личности
Будущий царь Иван (Иоанн) Грозный родился в 1530 году в селе Коломенском и был сыном великого князя Московского Василия III и Елены Глинской. Семейная жизнь его отца тоже, надо заметить, сложилась не лучшим образом. Первой женой Василия была Соломония Юрьевна Сабурова. Но за двадцать лет брака она так и не сумела подарить ему наследника.
В ту пору междоусобиц и династических войн вопрос с престолонаследием был особенно серьезным. Так что в 1525 году Василий III развелся с Соломонией, чтобы вступить в новый брак. Точнее, это был не совсем развод: несчастливую супругу насильно постригли в монахини под именем Софии, а дело представили так, будто она ушла от мирской жизни добровольно. В монастыре она и умерла спустя семнадцать лет.
Этот эпизод важнее, чем может показаться на первый взгляд. Соломония стала насильственно постриженной великой княгиней (есть версия, что она и в самом деле ушла в монастырь сама, понимая расклад политических сил и сочувствуя нестабильной позиции Василия). Начало было положено, и эта практика принудительного пострига женщин царской крови будет часто встречаться на страницах нашего повествования. Да и в дальнейшей истории России тоже.
Василий же затем женился на представительнице рода князей Глинских – рыжеволосой красавице Елене Васильевне. Ей тогда было около восемнадцати лет. Несмотря на юный возраст, девушка отличалась довольно сильным характером, так что с новой ролью освоилась быстро. В 1530 году она родила Василию наследника – Ивана, крещенного в честь Иоанна Предтечи, а через два года – еще одного сына, Юрия (Георгия).
Василий недолго радовался своему отцовству. В 1533 году он скоропостижно скончался, и трехлетний Иван официально стал великим князем Московским. Править от его имени начала Елена Глинская. Энергичная и целеустремленная княгиня быстро расправилась с двумя возможными претендентами на престол – князьями Юрием Дмитровским и Андреем Старицким.
Но и ее скоро постигло несчастье. В 1538 году Глинская неожиданно скончалась в возрасте тридцати лет. Вскрытие останков, произведенное в наши дни, показало, что причиной смерти могло стать отравление ртутью. Это вполне вероятно: ртуть в XVI веке нередко становилась надежным способом незаметно извести противника. Но факт отравления не бесспорный: ту же ртуть в те времена использовали в приготовлении косметики и лекарств.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Официальным брак в то время считался, если состоялся церковный обряд. Доподлинно известно о четырех таких обрядах Ивана Васильевича (притом что церковь разрешала только три, но пошла навстречу государевой просьбе). Поэтому говорится как об «официальных» женах только о четырех. –Прим. ред.