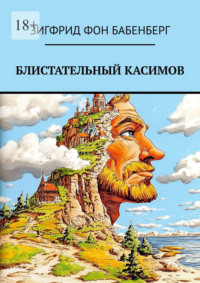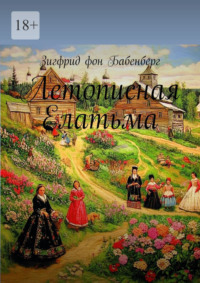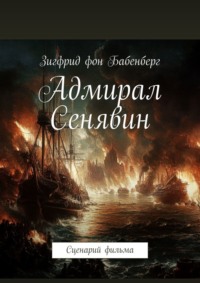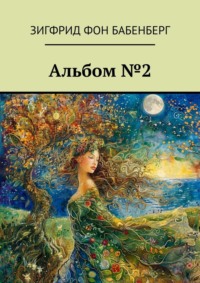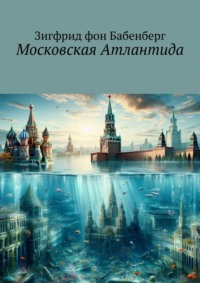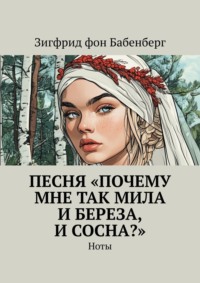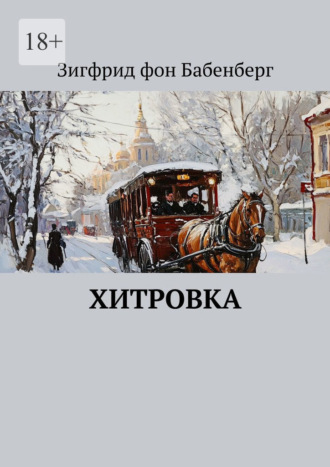
Полная версия
Хитровка
КРЕМЛЬ

Москва, 1472 год. Поздняя осень, пахнет дымом, щами и… легкой паникой.
Действующие лица:
Софья (она же Зоя) Палеолог: Византийская принцесса, недавно прибывшая. Умна, горда, слегка шокирована. Говорит по-гречески, по-латыни, по-итальянски. По-русски – пока только «да», «нет», «печь» и «холодно».
Боярин Федор «Ушастый»: Ответственный за «прием высокочтимой гостьи». Вечно вспотевший от стресса. Говорит громко и просто.
Мамушка Агафья: Приставлена к Софье. Знает 1000 способов укутать, накормить и перекрестить. Практична до мозга костей.
Слуга-Переводчик Никитка: Вечно путает «порфиру» с «парфёном» и «дипломатию» с «дичью».
Сцена: Теплые сени новых княжеских хором. Софья пытается приспособиться к жизни на печи. Федор Ушастый входит, низко кланяясь.
Федор (громко, стараясь быть вежливым): Здравья желаем, светлая княгинюшка! Как почивали? Печка не жарко палила? Морозы-то снаружи лютые, а у нас – благодать!
Софья (с достоинством, через Никитку): Скажи боярину, что… «покои» приемлемы. Однако сие ложе… она указывает на печь …слишком твердо и жарко. В Риме и Мантуе спали на кушетках с балдахинами. Никитка (переводит, путаясь): Грит, мол, печка – дело хорошее, да шибко жарко. А спать-то, дескать, привыкла на… на балконе с караванами?
Федор (озадаченно чешет затылок): Бал… балкон? С караванами? Это што за диковина? На печи – самое то! Кости греет, хворь прогоняет. Агафья, подбей княгине подушку пуховей!
Мамушка Агафья (сметая невидимую пыль с печи): Истинно так, батюшка! Полежи, матушка-княгиня, распарься! А я тебе щец горяченьких подам, с сальцем! От щей личико алее, краше станешь!
Софья (в ужасе): Salo? Cало?! Mio Dio! Никитка, скажи им – в Константинополе у императоров на завтрак были устрицы, фиги, вино хиосское! А не… не это болото с плавающими листьями капусты!
Никитка: Агафья, свет княгиня грит… што у ихнего царя греческого на утро… устрицы, фиги да вино кислое. А щи, мол, – это… грязь с капустными лопухами. Негоже. Агафья (возмущенно подбоченившись): Лопухи?! Да в щах все силы земли русской! И сальце – первый друг желудку! Устрицы… пфф! Это ж просто сопливые ракушки! Фигами сыт не будешь! А вино – оно без меда – сирым!
Федор (торопливо): Тише, Агафья! Не гневи свет! К Софье: Княгинюшка, прости невежество холопов! Щи – сила наша! А сало… э-э-э… это как оливки ваши, только сытней! Видя ее недовольный вид, переходит к делу: Дозволь доложить! Завтра прием у государя! Нарядиться изволишь как? Шубу соболью подали, шапку горностаевую!
Софья (оживляясь): Finalmente! Наконец-то! Никитка, скажи – я надену свою византийскую порфиру! Платье из парчи, с золотым шитьем! И диадему!
Никитка: Боярин, грит, наденет… порфиру с парфеном. И диван. Федор (в панике): Порфир? Парфен? Диван?! Никитка, ты рехнулся? Что за диковинные слова?!
Софья (терпеливо объясняет жестами): Vestito! Одежда! Красивая! Ткань! Она показывает на роскошный сундук. Федор (с облегчением): А-а-а! Платье! Так бы и сказали! Осторожно: Но, княгинюшка… мороз на дворе. Под сорок. Ваше… порфирное платьице… оно тонкое? В нем замерзнешь, как сизяк! Надень шубу поверх! А диван… э-э-э… на голову? Так шапку горностаевую поверх надень! Будет тебе и диван, и тепло!
Софья (в отчаянии): Ma è ridicolo! Шуба поверх парчи?! И горностай на диадему?! Я буду похожа на… на движущийся меховой чум!
Агафья (убежденно): Зато теплый чум, матушка! Здоровье дороже! Глядишь, государь-князь твой вид оценит – румяная, не дрожишь! А в порфире замерзнешь – синяя, как мертвец, станешь. Не по-боярски!
Софья (вздыхая, сдается): Va bene… Хорошо. Надену… шубу. Но диадему – sotto! Под шапку! Она делает жест «тихо, секрет». Федор (радостно): Вот и славно! Умница! Агафья, готовь княгине лучшую шубу! И шапку – чтоб уши не мерзли! Шепотом Никитке: Скажи ей… государь Иван Васильевич… он ценит практичность. И меха. Очень ценит меха. Софья (про себя, по-гречески): Θεέ μου! Боже мой! Эти северные варвары… Но князь… он силен. Как скала. Она задумчиво смотрит в окно на снег. Империи падают… но новые растут. Даже если они пахнут щами и медом. Громко: Никитка! Спроси у Агафьи… эта… баня? Говорят, она лечит душу и тело? Она делает робкий жест веником. Агафья (сияя): Баня?! Да это наше все, матушка! Как родишься – в бане, как помрешь – в бане помыть! Парилка, веничек березовый… ох, оживешь! Сгоню с тебя всю римскую тоску!
Федор (торжественно): Вот! Вот оно начало! Баня – истинно русское! Понравится! Шепотом Агафье: Только смотри, веником нежней! Она ж хрупкая, греческая! Не зашибись!
Агафья (машет рукой): Знаю я, знаю! Опалю слегка, чтоб кровь играла! К Софье: Пойдем, матушка, готовиться! Надо ж тебя к государю представить во всей… э-э-э… пытается вспомнить слово… в шубе с диваном красе!
Софья Палеолог, будущая великая княгиня Московская, с гордо поднятой головой, но уже с легкой тенью смирения (и мыслями о теплой шубе), позволяет Агафье вести себя навстречу русским баням, щам, морозам и своему новому, суровому, но бесконечно перспективному мужу – Ивану Васильевичу. Начинается великое, хоть и слегка комичное, слияние Византии и Московии.
Финальная реплика Софьи (уже в дверях, тихо, по-гречески, глядя на медвежью шкуру на полу): Λοιπόν… θα πρέπει να πολιτιστώ αυτούς τους βαρβάρους. Από την αρχή. (Итак… придется мне цивилизовать этих варваров. С самого начала.) Она решительно наступает на медвежью морду.
Пресня
Что было на месте Красной Пресни в начале становления Москвы (Средние века)?
«Пресня» – Река и Леса: Само название – ключ к разгадке. Река Пресня (ныне почти полностью заключенная в трубу) была главной артерией местности. Она брала начало из Кудринского болота (район нынешней Баррикадной), текла через пруды (знаменитый Зоопарковский пруд – ее остаток!) и впадала в Москву-реку у нынешнего Белого Дома. Вода в ней считалась чистой, «пресной» – отсюда и имя. Берега реки окружали густые смешанные леса (ель, сосна, дуб, береза). Это была дикая, живописная окраина молодой Москвы.
Великокняжеские и Монастырские Угодья: Земли по Пресне принадлежали великим московским князьям. Это были их охотничьи угодья («пожары») – место соколиной, псовой охоты на лосей, кабанов, оленей, пушного зверя. Леса были богаты бортными деревьями (дикие пчелы) – ценный мед и воск. Также здесь были сенокосные луга по берегам реки и ее притоков – жизненно важные для стойлового содержания скота зимой.
Первые Поселения: Слободки и Сельцо: Постепенно по берегам Пресни стали возникать небольшие поселения: Сельцо Воскресенское (Кудрино): Одно из древнейших документально известных (XIV – XV вв.). Название «Кудрино» связывают то ли с владельцем по прозвищу Кудря, то ли с «кудрявыми» лесами вокруг. Позже здесь возникла Кудринская слобода.
Новинский (Новинковский) Монастырь: Основан в XV веке (точная дата спорна) на высоком левом берегу Пресни (район нынешней Новинской набережной). Был небольшим, но важным духовным центром, владевшим окрестными землями. Давал название местности – Новинское (позже Новинская слобода, Новое Ваганьково). Монастырь упразднили в XVIII веке, но память осталась в топонимике (Новинский бульвар).
Палашная Слобода (Пресненская): Возникла позже, в XVI – XVII вв., ближе к устью Пресни. Здесь селились ремесленники-палашники, делавшие палаши (холодное оружие, разновидность сабли) для царского войска. Это уже начало промышленной истории Пресни.
Дороги и Тракт: Через Пресненские земли проходила важная дорога на Волоколамск и дальше на Смоленск и Новгород (нынешнее направление Кутузовского проспекта и Большой Пресненской улицы). Это делало местность стратегически значимой, хотя сама дорога была грунтовой и трудной.
Жизнь и Быт: Жители этих слободок и селец были крестьянами, бортниками, рыбаками, сенокосами, позже ремесленниками. Их жизнь была тесно связана с природой: Рыбная ловля: В Пресне и прудах ловили щуку, окуня, плотву.
Бортничество: Добыча меда диких пчел в лесах.
Сенокос: Заготовка сена на заливных лугах.
Охота: Хотя княжеская охота была привилегией, простые люди могли ловить мелкого зверя и птицу.
Ремесло: В Палашной слободе – ковка и полировка клинков.
Тишина и Удаленность: По сравнению с шумным Китай-городом или Замоскворечьем, Пресня была тихим, патриархальным, почти сельским уголком у границ Москвы. Сюда доносился лишь звон колоколов немногочисленных церквушек да крики диких птиц.
Почему это было важно для становления Москвы?
Ресурсы: Лес, дичь, мед, воск, сено, рыба – все это было жизненно необходимо растущему городу для строительства, питания, ремесла и торговли.
Стратегическая Глубина: Лесисто-болотистая местность к западу от Кремля была естественным барьером от внезапных набегов (хотя серьезные осады Москвы все равно достигали стен Кремля).
Транспортная Артерия: Река Пресня (пусть и небольшая) и дорога на запад связывали Москву с важными торговыми и военными путями.
Резерв Пространства: Эти земли были резервом для будущего роста города, слободского расселения и промышленности (что и произошло позже, в XVIII – XIX вв.).
Контраст с будущим:
Трудно представить, глядя на бетон и асфальт Красной Пресни XX – XXI вв., что когда-то здесь:
Шумел первозданный лес, где охотились князья.
Чистая река Пресня извивалась среди лугов, где косили сено и ловили рыбу.
Стоял тихий монастырь, а не Дом Советов.
Мастера ковали царские палаши, а не становились участниками баррикадных боев.
Главной «кровью» были дикий мед и сок кленов, а не трагедия политического противостояния.
Красная Пресня в средние века – это был зеленый, дышащий, живой край на западной окраине Москвы, кормивший ее и дававший ей ресурсы, место княжеской охоты и крестьянского труда. Ее «красное» имя появилось позже, в XIX веке, как символ красоты, а не крови. И лишь в XX веке оно обрело свой самый мрачный смысл, навсегда затмив в массовой памяти тихие воды и густые леса древней Пресни. История места – это наслоение эпох, где средневековая идиллия стала фундаментом для будущих бурь.
Палашная слобода
Начало будущей промышленной Пресни. Давайте оживим Палашную слободу на берегу Пресни (район нынешней Красной Пресни) в XVI – XVII веках. Где воздух звенит от ударов молотов, шипит от раскаленного металла в воде и гудит от старинной кузнечной речи – грубой, образной, полной профессионализмов, ныне забытых. Знакомьтесь с мастерами: Герои: Гаврила «Жар-Губа» – старый мастер, седой, с лицом, как покореженный раскаленный докрасна металл. Говорит хрипло, отрывисто, с присловьями. Главный по «узлу» (закалке клинка).
Миронка, сын его – молодой, сильный, но еще «зеленый». Рвется к новым «узорочьям» (украшениям), но отец учит крепости. Говорит проще.
Аника «Ветрюга» – сосед-кузнец, вечно недовольный, завистливый, но мастер на все руки. Любит ворчать и «тянуть волынку» (медлить).
Подмастерье Федька «Ушко» – юнец, помощник, ловит каждое слово. Прозвище – за умение услышать звоночек металла при ковке.
Старинная Профессиональная Речь (Краткий Словарик): Крицу колотить / Железо гноить: Плавить и проковывать железную руду, выжигать шлаки.
Сварка: Не современная, а кузнечная – соединение раскаленных слоев металла ударами.
Узол / Закалка: Самый ответственный момент – охлаждение раскаленного клинка в воде или масле для придания твердости. «Дать узол» – закалить. «Спустить узол» – отпустить металл, снять излишнюю хрупкость.
Вода-матушка / Масло-батюшка: Охлаждающие жидкости. Вода дает тверже, но хрупче («злее») закалку, масло – мягче, вязче («добрее»).
Красная жар / Вишневый глаз / Соловьиный поцелуй: Стадии накала металла. «Красная жар» – начало, для ковки. «Вишневый глаз» – вишнево-красный, для сварки. «Соловьиный поцелуй» – желтый, почти белый, для закалки лучших клинков.
Обух / Полоса / Кромысло: Части клинка. Обух – тупая сторона, полоса – лезвие, кромысло – острие.
Потрошить: Выковывать дол (желоб) на клинке для облегчения и жесткости.
Звездочки / Искра-трава: Узор на металле после травления (узорочье).
Молот-ручник / Кувалда-боец / Напильник-драч: Инструменты. Ручник – легкий молоток мастера, кувалда – тяжелая для подручного, драч – грубый напильник.
Нагар / Шлак: Отходы, окалина.
Волк в металле: Скрытый дефект, трещина, грозящая сломать клинок.
Пальцы лизать: Об очень остром лезвии. «Чтоб враг пальцы облизывал, как об полосу!»
Толку как с козла молока: Бесполезная работа, брак.
Узол Государев
(В кузнице. Жарко. Гул наковальни. Гаврила правит клинок ручником, Миронка мехами дует, Федька ждет ушами.)
Гаврила (шипя, как вода на клинке): Мирон! Дуй, не волынку тяни! Видишь – глаз вишневый на полосе играет? Сейчас узол давать! Федька, вода-матушка готова? Не ледяная? Чтоб без волка!
Федька: Готова, мастер! Из Пресни-реки, чиста, как слеза!
Миронка (с надеждой): Батюшка, а не маслом-батюшкой? Клинок ведь государев, стрелецкому голове… добрее бы…
Гаврила (бьет ручником по наковальне – БАМ!): Молчи, зеленый! Стрельцу злости надобно! Чтоб татарин пальцы лизал от страха! Вода – и баста! Видишь – соловьиный поцелуй на кромысле? Пора! Держи!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.