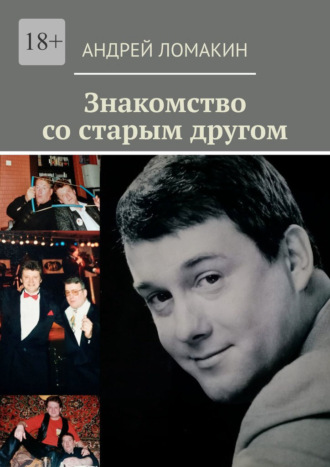
Полная версия
Знакомство со старым другом

Знакомство со старым другом
Ломакин Андрей
Составитель Светлана Севрикова
© Ломакин Андрей, 2025
© Светлана Севрикова, составитель, 2025
ISBN 978-5-0067-5136-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Знакомство со старым другом
ЗНАКОМСТВО СО СТАРЫМ ДРУГОМ
(документальная повесть о русском конферансье)
Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но мы живы в великом терпении…
(Второе послание св. апостола Павла коринфянам)С благодарностью:
Светлане и Анне Свистуновым,Василию Динову,Евгению Поликанину,Серёге Миронову,Валентине Кофтун,и всем, кто помог автору восстановить противоречивую жизнь героя, а также добрейшему человеку – Александру Антонову, который помогал мне с оцифровкой архивных материалов для этой книги (к сожалению, он её не сможет прочитать… Светлая ему память).
Отдельное un grand merci «карантину» двадцатого года за возможность реализации в период «самоизоляции».
1. «ДРУГ ТАКОЙ, ПРИЗНАТЬСЯ, БЕСКОНЕЧНО ДОРОГ…»
Жанр конферанса на эстраде самый беспокойный. В нём исключено тихое плаванье без штормов, подводных камней и коварных мелей. И всё это должен уверенно и смело преодолевать капитан – конферансье, по праву занимающий мостик на корабле – концерте.
(А. Любанский)Никогда не старался зафиксировать в памяти момент знакомства с ним. Может, поэтому кое-что и запомнилось…
Доисторический 1987 год. В перестроечно-ельциновской Москве (Е.Б.Н. был тогда мэром) случилось доселе невиданное.
Первого апреля в ЦПКиО (Центральном Парке Культуры и Отдыха) имени Горького состоялся Праздник Юморины. Дух веселья, перемешанный с духом свободы, был благотворен для посетителей от трёх и до пенсии.
Перестройка!
Гласность!
Плюрализм!..
Значки с Горбачёвым…
Музыкальная эстрада… Сцена на Фонтанной площади…. Центральная эстрада… Эстрада БМП – Большого Массового Поля… Открытые выступления ещё вчера полуподпольных рок-групп. Игры и конкурсы под началом лучших столичных культорганизаторов. Конферансье с громкими именами.
Постановщиком «Юморины-87» был известный в то время режиссёр по фамилии Николаев, имя которого, к сожалению, не сохранилось в моей памяти за давностью лет.
Народ на это действо, что называется, валил валом.
Я чуть не забыл назвать ещё одну площадку – по большим праздникам её сооружали впритык массивным колоннам у главного входа в парк. И со всех площадок, заглушая гул толпы, неслись «зазывалки» и «приглашалки»:
Подходите! Проходите!Вход свободен, разрешён!И улыбку предъявите.Без улыбки, извините,Вход на праздник запрещён!Способны ли нынешние парки «заваривать» праздничную «кашу», сравнимую качеством с той, что «заваривалась» в те годы, давно оставшиеся за поворотом истории? Не уверен.
В плане нано-технологий, вайфаев-шмайфаев, удобных велодорожек, элетросамокатов – безусловный прогресс. Всё это чудо-чудное посетителям прежних парков не могло даже присниться! И в этом смысле парки ХХI века – вне конкуренции.
Но если будет уместно сравнить парк с человеком, то нынешние напоминают киборгов, в то время как прежние, «немодные» и «устаревшие», – живых людей…
Так называемые «эффективные менеджеры» делают то, что до них не удавалось никому: они убивают (если уже не убили) душу московских парков. Эти люди всерьёз полагают, что критерий современных парков – велодорожки и WI-FI. Хорошо. Пусть так. Хотя на мой взгляд, где ещё можно (и нужно) отдохнуть от гаджетов, как не на скамейке в парке, среди берёз и клёнов? И только вера в бессмертие души (в том числе и парков!) оставляет надежду, что им не удастся довести этот процесс до конца…
В парках «раньшего» времени в Москве почти всегда присутствовали так называемые «городские сумасшедшие». Неряшливо одетые и неопрятные, с вечной улыбкой на лице, они были обязательной частью любого мероприятия. Их всегда можно было заметить даже среди сотни зрителей. Стоят. По-детски радуются. Зорко за всем наблюдают. Громче всех реагируют на удачную шутку ведущего или на прикольный конкурс, в котором первыми рвутся принимать участие. Иногда во время конкурсов они почти вплотную подходили к ведущему и чуть ли не заглядывали ему в рот. Мой коллега ведущий Раис Семерханов метко назвал их «бесплатным приложением к эстраде».
Одного такого чудика я регулярно встречал в Сокольниках.
Случайно узнал историю жизни этого человека. Рос нормальным парнем, успешно учился в обычной московской школе. После выпускного провожал домой одноклассницу, переходили дорогу, и его на всей скорости сбивает машина. Девушка не пострадала, а он… надолго загремел в больницу… Несколько операций на голове… Физически кое-как восстановился, но речь была сильно нарушена, ходил он неуверенной, кривой походкой, да и с головой – уже что-то не то… С тех пор для парка Сокольники он стал «городским сумасшедшим», настоящим талисманом, юродивым, называйте, как хотите.
Я это к чему?..
Можете сколько угодно смеяться над моими словами, но пока в парках во время праздников присутствовали юродивые, – парк был жив и здоров.
В то время настоящей королевой праздников и гуляний в Сокольниках по праву считалась лауреат всероссийских и всесоюзных конкурсов – Серафима Ивановна Царькова. Зрители старшего поколения могут помнить её по участию в популярной в начале 90-х передаче Григория Гурвича «Старая квартира». Постоянным её партнёром был баянист, также многократный лауреат, – Евгений Русаков.
Женщиной Сима была с характером. Что в жизни, что на сцене… Боевая. С командным голосом. На день ВДВ она решительно сбрасывала со сцены за шиворот пьяных «братишек»! И никто из них не смел даже рта раскрыть.
Несмотря на внушительный возраст, она и внешне умела себя преподнести. Элегантная причёска, туфли на высоких каблуках, платье – чуть выше колен. Ни дать ни взять – сов-sex-бомб!
Однажды вечером уже знакомый читателю чудик, с трудом складывая слова в предложения, признался ей в любви. На что Сима, критически оглядев «ромео» с ног до головы, выдала:
– Да что у тебя там есть?! Нечем любить!!!
То, что случилось дальше, сегодня назвали бы «полным трэшем» даже для прожжённого бойца культурно-массового фронта, такого как Серафима! Чудик прилюдно снял с себя штаны, обнажил свои «пре-мудь-рости» и стал гоняться за Симой, как ягуар за кроликом…
Долго потом она вспоминала эту историю.
Но вернёмся к главному герою моей книги.
Итак – 1987 год. В Москве случилось доселе невиданное. Первого апреля в Парке Горького состоялся Праздник Юморины.
Первого…
Впервые…
Гербом праздника был выбран комар, огромное изображение которого украсило главный вход Парка Горького. В глубине соорудили одну из площадок в виде корабельной палубы. Мне как штатному культорганизатору, пришлось работать поочерёдно едва ли не на всех разбросанных по парку площадках. Из команд, что «зажигали» на «палубе», был легендарный «Пикник». Больше никого не помню. В любом случае, состав был классный.
Публика занималась чем угодно, но только не скучала… Есть «палуба» – есть и корабль. Значит, должен быть и капитан, а у капитана его флаг – улыбка. Далее – по тексту известной песни!
Капитан, он же ведущий, – лоцман этого плаванья по эстрадным волнам, – выглядел убедительно: в белоснежных брюках и фуражке, на кителе блестящие пуговицы с якорями… На лацканах – нашивки. Всё как полагается. Однако… Его манера вести программу, общаться со зрителями, вызывала двойственное чувство.
С одной стороны, он вёл и себя, и программу легко и непринуждённо. С другой – эта непринуждённость была доведена до такой степени простоты, что казалась сродни скорее ведущему «из народа», нежели «штатному» конферансье. Так, по крайне мере, лично я воспринимал его в первые минуты…
«Как здорово, легко и по-доброму ты ведёшь, капитан, свой корабль! Но не слишком ли лёгок твой жест и просты слова, что ты их… даже не бросаешь, а мягко перекидываешь со сцены – в народ?!»
Примерно такими вопросами я мысленно задавался, глядя на «капитана». (Забегая вперёд, скажу: Свистунов долгое время был штатным конферансье Москонцерта. Но он никогда не был «заштатным»)
Дважды, если не ошибаюсь, первого и второго апреля, я работал на этой площадке. И дважды на мостик поднимался он – капитан концерта Сергей Свистунов.
На второй день совместной работы, какая-та сила подвела меня к нему и повелела с ним познакомиться. Значительно позднее я понял или скорее осознал, что той таинственной силой была моя врождённая тяга к людям творческим, к тем, кто делает что-то лучше, легче, уверенней, чем это делаю я. И главное, симпатичным и милым моему сердцу.
На «ты» мы перешли секунд через десять после знакомства.
Серёжа дал мне визитку – узкую белую бумажную полоску с простым текстом на одной стороне: «Свистунов Сергей Яковлевич. Конферансье Москонцерта». И домашний телефон – как полагается. Хотя…
Почему полагается? Кем полагается?! Однажды я видел визитку, на которой были напечатаны только инициалы. И всё.
Кто захочет – найдёт!
Можно отметить, что иногда для быстрого запоминания телефонных номеров, я их зарифмовываю. Привычка такая… Не минула та же участь и Серёгиных семи цифр:
Друг такой, признаться,Бесконечно дорог:Двести восемнадцатьНоль четыре сорок…С этого всё и началось. В тот же или на следующий день я ему позвонил. Болтали долго. Как в том старом анекдоте «Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?»
Вот и у меня, – тогда ещё не папы, а всего лишь сына и внука, – было чувство, что я разговаривал с самим собой! Настолько одинаково мы смотрели на многие вещи.
Не я один могу похвастаться столь быстро установившимися с Серёжей дружескими отношениями. Господь Бог ли, родители или кто-то, мною не названный, наградил его ценным даром: привязывать к себе сердцем таких разных, порою совсем не похожих друг на друга, людей! Впрочем, об этом речь впереди!
Это будет повесть о воине из когорты московских конферансье: надёжном, талантливом, безотказном, рядовом, но – не заурядном!
Доброта, открытость и сердечность Серёжи ощущались в равной степени, как на сцене, так и в жизни.
Это будет бесхитростный рассказ, составленный из отрывочных моих воспоминаний и воспоминаний людей, которые знали Сергея, – человека, вроде бы и публичной профессии, но по сути, игравшего в ней роль «бойца невидимого фронта».
Впрочем, это удел почти всех конферансье. А жаль!
Представляя мегазвёзд нашей эстрады – Софию Ротару, Игоря Николаева, Валерия Леонтьева, Ирину Понаровскую, Юрия Антонова и многих-многих, Сергей и сам представлял из себя личность по-своему яркую и неповторимую.
Люди, где же справедливость? Не пора ли представить и самого конферансье?
Утверждаю: у Свистунова были не только свои «фишки» и «мульки». У него была своя пластика. Я называю её «москонцертовской». Вкрадчиво и без нажима он брал любую, даже и скептически настроенную, аудиторию, сколь «знающей» и «искушённой» она сама себя ни воображала. Я любил наблюдать, как он выходит из-за кулис, подходит к стойке, снимает микрофон, передвигается туда-сюда по сцене. Как-то по-особенному. По-своему. Скажи я ему об этом, он, скорее всего, удивился бы. Не думаю, что он заранее продумывал своё сценическое поведение. Иначе это выглядело бы неестественно и «постановочно», и он бы тогда уже не был собой.
Это моё мнение.
Я вообще считаю, что настоящий конферансье должен на сцене импровизировать. А репетировать он должен – в крайнем случае. Например, когда эстрадный режиссёр собирает неуловимых артистов «лёгкого» жанра для постановки обозрения или для съемки. Геннадий Филиппов – руководитель ансамбля игр и забав «Неужели» – говорил по этому поводу, что иначе это будет уже не выступление, а «выученная роль».
Что ещё сказать о Свистунове? Ему удивительно шла эта профессия. Да-да, именно шла! Быть эстрадным артистом – рассказывать, хохмить, травить анекдоты, пародировать… Творчески и человечески он органично вписывался в любую художественную команду – в Москве ли, в Сибири, в Афганистане, в Германии, в Венгрии…
Валентина Кофтун – многоопытный московский администратор и актриса – признавалась мне, что до поры до времени не знала никого в своей среде, кто бы отзывался о Свистунове плохо. Так было до той драматической черты, которая и привела в конце-концов к его самоуничтожению… Это больно признавать, но это так. Он сам приложил руку к тому, чтобы ускорить развязку… Но не будем о печальном! Человеческая сущность Сергея, его профессия, никак не вяжутся с этими мрачными вещами!
Однажды я напросился к нему на концерт, проходивший в зале туркомплекса Измайлово. В финале, глядя в зал своими детскими лучистыми глазами, Серёжа улыбнулся и произнёс:
– Вы никуда не торопитесь?
Зрители:
– Не-е-ет!
– Ну, что же, вот так… никуда не торопясь, – (реакция зала – смех) – вставайте со своих мест, прогуляйтесь по вечерней Москве… А наша программа подошла к концу. Спасибо и до новых встреч!
Услышав такую концовку, я навсегда её «прихватизировал».
Кстати, мы с ним никогда не тряслись по поводу авторства и «заёма» своего репертуара. Я с радостью предлагал собственные наработки. Он не возражал против «заимствований» из своего творческого багажа. Помню, я собирался на концерт в другой город и попросил Серёжу отработать вместо себя в Доме кино. Он согласился, но в последний момент моя поездка была перенесена, и у меня появилась возможность посмотреть моего друга в деле.
Признаться, я здорово волновался за результат. Ведь он выходил на сцену после долгого перерыва. Накануне ему пришлось лежать в больнице с печёночным приступом. (Это было первым «звоночком», предвещающим грядущую беду). Я не знал, в каком виде и с каким цветом лица он предстанет перед публикой. К счастью, я увидел за кулисами Серёгу: элегантного, в костюме и при галстуке, бодрого, подвижного… Практически мальчика…
В программе участвовал Георгий Жжёнов.
Я уже имел опыт представления этого корифея нашего кино и потому рискнул предложить Серёже готовый вариант «подачи» Георгия Михайловича.
И вот он на сцене:
– Несмотря на то, что в его жизни были «Горячий снег» и «Ошибка резидента», ему дорог его «Экипаж». Народный артист СССР Георгий Жжёнов!
Реакция зрителей не заставила себя ждать. Последние два слова потонули в рукоплесканиях! Назовите мне ещё одного маститого ведущего, чтобы он так же легко подхватывал не свой конферанс и «подавал» как родной? При этом он так убедительно произнёс эту фразу, в которой обыгрываются фильмы со знаменитым актёром, что у публики не возникло ни тени сомнения, что подводка была придумана самим Сергеем.
Известный блогер и исследователь культуры, а некогда активно действующий администратор Игорь Зосименко, рассказывает:
– С Сергеем Свистуновым мы пересекались пару раз. Первый – когда работали в День города в Долгопрудном, примерно в девяносто четвёртом или пятом году. В одном из парков культуры и отдыха. Там выступали Вадим Добужский1, Сергей Кондратьев2, группа «Гротеск»3. Серёжа на том концерте делал очень интересные пародии, хорошо держал площадку.
Помню, меня кто-то угостил сигаретой. Говорю Серёже: «Пойдём, покурим?» Тот отвечает: «Я за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты!»
Второй раз мы работали вместе на заводе (по-моему, в КБ им. Сухого). Заканчивал концерт Владислав Кононов – певец, который исполнял с Надеждой Чепрагой известную в своё время песню «Мне приснился шум дождя» Евгения Доги на стихи Владимира Лазарева. Пока Кононов работал, за кулисами стояли какие-то ребята и о чём-то разговаривали. В программе они, во всяком случае, заявлены не были. Об их появлении и участии в нашем концерте мне не сказали. Никто не предупредил о них и Сергея. После того, как Кононов закончил выступление, Сергей, попрощавшись со зрителями, сказал: «До новых встреч!», и ушёл за кулисы. К нему подходит заказчик и говорит: «А чего ж вы не объявили эту группу? Вот – ребята… Они стояли, ждали, когда их представят… Свистунов ответил, что никто ему не сказал, что эти ребята должны выступать. Мало ли кто может пройти за сцену? Вот если бы за кулисами стояла Зыкина… И дальше – пауза. Заказчик махнул рукой, пожал плечами и пожелал Сергею всего хорошего, – концерт ему в общем-то понравился.
Жалко, что жизнь Серёжи была такая короткая. Он был очень талантливым человеком. Он мог бы развить своё искусство в разных жанрах, в том числе, в пародии, в конферансе… Я не ходил у него в друзьях, но мы были с Сергеем хорошими знакомыми.
«Я не ходил у него в друзьях»… А я? «Ходил» я в его друзьях или не «ходил»? Об этом, Бог даст, я спрошу у него потом – после… Для меня важнее, что я обрёл на земле друга, по сути – родного человека… Это во-первых. И это главное. А уже потом – талантливого коллегу-конферансье, друга других друзей, приятеля приятелей и прочее…
Эта книга – попытка что-то вернуть и исправить. Моё «прости» тому, кого я знал давно и… так мало! Она – о победе любви над смертью и таланта над забвением.
Моё знакомство со старым другом…
2. И НАЧАЛСЯ КОНЦЕРТ!..
Наши концерты дают понять, что ты не одинок.
(Тайлер Джозеф, музыкант).На сцене мой старый друг частенько «сам себя» обыгрывал:
– Добрый вечер, меня зовут Сергей Свистунов. Такая вот смешная фамилия…
Остаётся сожалеть, что на протяжении всей профессиональной карьеры телевидение не видело Свистунова в упор. Ну разве что за исключением случая, о котором поговорим чуть позже, и участия в программе окружного ТВ.
А ведь рассказчик Серёжа был ещё тот!
Эту историю я услышал от него в автобусе, когда мы возвращались с концерта в подмосковном городе Дубна.
Назовём её…
Софите людей!
Застойные годы.
Крупный кассовый концерт в большом городе.
В зале – «сливки общества»: горком, горсовет, пресса…
Участвуют артисты разных жанров, том числе – семейная акробатическая пара.
И надо же было такому случится, что они забывают дома фонограмму, под которую работают. Администратор психует. Аншлаг, все номера заявлены, отмена недопустима.
И тут администратора осеняет! За кулисами он подводит акробатов к… (Далее – весьма уязвимый момент моего пересказа. Как хотите, но я не помню как звали ту крашеную лысую еврейку-аккомпаниатора преклонных лет и с непреклонной тягой к омоложению! Назовём её – Серна Моисеевна, как в записных книжках И. Ильфа).
Итак, администратор знакомит акробатов с аккомпаниатором. Серна Моисеевна их успокаивает:
– Всё будет нахмально! Я сделаю вам кофетку!
Конферансье представляет акробатов. Они выходят на сцену. Но какие бы упражнения они ни делали, какие фигуры ни выписывали, Серна Моисеевна – всё в одну дуду: «бля-блям-блям-блям»
Кое-как довыступали.
В гримёрке акробат высказывает:
– Мы работали с вами в первый и в последний раз. Я своим коллегам скажу, чтобы с вами никто не работал!
На том и разошлись. Но… Человек предполагает, а концертный график – располагает…
Ситуация зеркально повторяется. Снова кассовый концерт, снова (вот тоже идиоты!) забывают фонограмму.
И снова в зале солидные гости, местное начальство…
И вновь – тот же аккомпаниатор, что всё лепит «в одну дуду».
И снова – «работать нельзя отменить», – (запятую в нужном месте поставите сами).
Администратор (какая, однако, у человека вредная профессия!) проявил чудеса красноречия, умолял, стоял на коленях, но упросил.
Артисты на сцене. Одно упражнение, другое… Повороты, кульбиты, стойки…
А Серна Моисеевна всё наяривает: «блям-блям-блям-блям!»
В какой-то момент мизансцена меняется. Акробат загадочно шепчет своей жене:
– Застынь на месте. Я сейчас вернусь…
И начинает медленно, но неумолимо приближаться к роялю.
Видя, что расплата близка, Серна Моисеевна поднимает со стула свой зад и по-гусиному вытягивает шею в сторону кулис.
Не прекращая играть своё «блям-блям», она вскричала:
– Убифааают, софите людей!
…блям-блям-блям…
– Убифают!!!
…блям-блям-блям…
Софите…
Мой дорогой читатель! Не жди развязки этой истории. Она, – история, – об этом умалчивает… Ах, как жаль, что я не могу передать на бумаге, насколько уморительно Серёжа, рассказывая, изображал эту пианистку!
В таких случаях говорят: это надо видеть.
Могу предположить, что эту и многие другие свои байки он никогда не рассказывал со сцены, о чём остаётся лишь сожалеть…
А вот ещё одна, пока не забыл…
Шоколадный коробейник
Как-то он ехал в электричке. В вагон вошёл «коробейник», из тех, что пытаются втюхать скучающим пассажиром всё, что им надо, а чаще не надо. Чувак был в розовой рубашечке и с подкрашенными ресницами. Высоким тонким голосом, он обратился к аудитории заученными словами:
– Уважаемые пассажиры! Вашему вниманию предлагается шоколад Бабаевской фабрики…
Проходит мимо Сергея. Тот переспрашивает:
– Чей, говорите, шоколад?
Продавец кокетливо, тоненьким игривым голосом:
– Му-у-ужииик! Ты чё, глухой?! Я же говорю: ба-а-а-аба-а-а-евский!
Рассказывая, Сергей до того забавно играл своего персонажа, что слушатели надрывали от смеха животики. Пародийный дар моего друга доводил подобные истории до полноценного эстрадного номера. Подмечать, наблюдать, чтобы позже – с блеском рассказывать друзьям.
Одна из таких историй стала просто классикой. Лично я слышал несколько её вариаций и вот одна из них. Ещё живы и здравствуют те, кто слышал об этой истории и, возможно, был её участником. Так что великодушно извините, если автор ошибся в деталях и в месте действия!
Акустика
…Гастроли артистов Москонцерта в русской глубинке. Накануне прошёл многочасовой концерт. Часов до девяти вечера. Потом небольшой банкет. Часов до двух ночи. Артисты отсыпаются в своих номерах. Гостиница, где их разместили, была деревянная, с внушительным эхом внутри, и больше, походила на барак. Акустика внутри такая, что стоило кому-нибудь чихнуть на первом этаже, как со второго он услышит тут же: «Будь здоров!»
Пять утра. Две уборщицы моют пол. Одна другой кричит..
И тут Серёга неожиданно переходит на фальцет:
– Клава-а-а! Вёдра давай!!!
В исполнении Сергея это байка настолько была уморительна, что он бисировал перед слушателями бессчётное количество раз.
А вот ещё один случай на сцене, как нельзя лучше говорящий о его находчивости.
Носков нет
Это было в Перестройку, когда из магазинов стало пропадать всё самое необходимое. Выходит конферансье. Начинает хохмить. Рассказывать анекдоты. Вдруг с первого ряда раздаётся:
– Вот вы тут всё шуточки разные, прибауточки… А в магазинах уже носков нет!..
– Носков?! Всегда пожалуйста! Встречайте, иллюзионист Вадим Носков!
В его репертуаре была одна убойная реприза, о который знали почти все, кто дружил или общался с ним. Это реприза про свечку. Мне напомнил о ней пародист Василий Динов, считающий себя учеником Свистунова и наиболее плотно общавшийся с ним в последние годы.
Реприза про свечку
В репризе действуют дед, бабка и трое сыновей.
Ночью, перед тем как лечь спать, они пытаются задуть свечку. Но поскольку у каждого из них были физические дефекты, ни у кого не получалось сделать это самостоятельно. Наконец, нашёлся кто-то, кто подошёл и потушил свечку пальцами…
Смеяться над дефектами человека, конечно же, нехорошо. Но Свистунов (и мы ещё вернёмся к этой теме) как никто воплощал в жизнь лозунг: на эстраде важно не столько что, сколько как!
Однажды во время исполнения этой репризы какой-то молодой человек вдруг крикнул из зала:
– А я знаю эту сказку!
Сергей не растерялся:
– Да?! Ну тогда выходи на сцену! Сейчас ты нам её и расскажешь!



