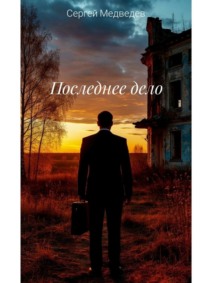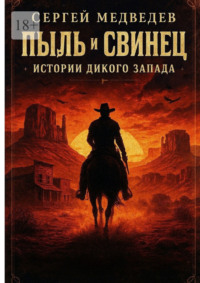Полная версия
Пока мы дышим. Огонь Холокоста сквозь призму одной семьи

Пока мы дышим
Огонь Холокоста сквозь призму одной семьи
Сергей Максимович Медведев
© Сергей Максимович Медведев, 2025
ISBN 978-5-0067-5215-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1: Вступление. Июнь 1941. Запах яблок и грозы
Июнь 1941 года в деревне Ольховка Смоленской области был настоящим воплощением лета. Воздух, густой и тёплый, был соткан из запахов: сладковато-терпкого аромата яблоневого цвета, что до сих пор осыпался нежной метелью с вековых деревьев, свежей горечи скошенной травы, лежащей аккуратными валками на деревенских околицах, и далёкого, едва уловимого запаха смолы от соснового леса, что темнел на горизонте. Солнце, нежаркое по утрам, щедро лило золотой свет на потемневшие от времени крыши изб, на поблёскивающие серебром листья тополей вдоль главной улицы, на ещё не выцветшую, сочную зелень полей, обещающих богатый урожай. Ольховка жила своим неспешным, вековым ритмом, который казался незыблемым, как сами эти тополя.
Утренний дымок вился из печных труб, запахи топленого молока и горячих, чуть пригоревших лепёшек смешивались с вездесущим ароматом цветущей черёмухи. Жужжание пчёл на яблонях, казалось, исходило от самих деревьев, таких густых и полных жизни. Этот монотонный, убаюкивающий гул был фоном для всего – для детских игр, для скрипа колодезного ворота на краю выгона, где сходились по утрам женщины с вёдрами, для негромкого гомона, долетавшего до небольшой кузницы Алексея Соколова.
Алексей Соколов, тридцатилетний мужчина, был средоточием спокойной, незыблемой силы. Деревенский кузнец, он был кряжист и широкоплеч, с руками, грубыми от многолетнего труда, с узловатыми пальцами и кожей, загрубевшей от жара горна и тяжести молота. Но эти же руки, способные выковать подкову или починить самую сложную деталь плуга, могли нежно поправить выбившуюся из косы прядь у старшей дочери Кати, когда та, прищурившись от солнца, протягивала ему кружку парного молока. В его движениях не было ни грамма показной нежности или излишней сентиментальности, свойственной иным мужчинам, но каждое из них, каждый его жест, каждый взгляд говорил о безмерной, глубокой любви к своим девочкам, к своей Анне. Алексей был немногословен – он предпочитал действия словам. Его молчаливое присутствие, его непоколебимая надёжность были опорой для всей семьи, тем фундаментом, на котором держался их мир. Когда он входил в избу, казалось, сам воздух становился плотнее, наполняясь чувством защищённости.
Анна Соколова, двадцативосьмилетняя, была полной противоположностью своему мужу. Тонкая, порывистая, с глазами, полными света и тепла, она была душой их семьи. Анна работала учительницей в сельской школе, и дети тянулись к ней, как к солнцу, ловя каждое её слово. Её звонкий, заразительный смех часто раздавался во дворе, когда она играла с Машей, младшей дочерью, или разучивала с Катей новую песенку. В ней удивительным образом сочетались мягкость, доброта и несгибаемый внутренний стержень – качество, которое Алексей почувствовал в ней с первого дня их знакомства. Анна пела девочкам колыбельные по вечерам, укладывая их спать, читала им сказки, заплетая косы тонкими, ловкими пальцами. Её мир был прост и чист, ограничен стенами их дома и любовью её детей и мужа. Она берегла этот мир, как самое ценное сокровище, неосознанно, но всей своей сутью.
Катя, двенадцатилетняя, была серьёзной не по годам. В её больших, внимательных глазах часто мелькала тень взрослой тревоги, которая не должна была появляться на лице подростка. Она уже помогала матери по хозяйству, носила отцу в кузницу еду в оплетённой берестой корзинке, следила за младшей сестрой. Катя была наблюдательна: она замечала, как застывает улыбка на лице матери, когда та, склонившись над радиоприёмником, ловила глухие, неясные сводки новостей из города.
Маша, семилетняя егоза, жила в своём собственном, солнечном, нетронутом предчувствием беды мире. Для неё мир был наполнен бабочками, танцующими над клевером, историями про леших и кикимор, которые ей шёпотом рассказывала бабушка, и бесконечными играми в догонялки с соседскими ребятишками. Она ещё не знала, что такое тревога или страх. Её смех был чистым, как родниковая вода, и звонким, как летний колокольчик. Она могла часами сидеть под яблоней, придумывая истории про эльфов, живущих в цветах, пока Катя осторожно не напоминала ей о поручениях матери, или пока мать не звала её к обеду. В её глазах не было ни тени тех забот, что ложились на плечи старших.
Дни текли, но привычное спокойствие всё чаще нарушалось. В воздухе витало нечто неосязаемое, но ощутимое – предчувствие. Соседи, собираясь вечерами на лавочках у ворот, перешёптывались о «нерушимой границе» и о том, что «немцы не посмеют», что «у нас армия сильная». Но эти слова звучали скорее как заклинание, как попытка отогнать наваждение, чем как искреннее убеждение. Анна всё чаще прислушивалась к радио, где дикторским голосом, сухим и официальным, зачитывались казённые сообщения из Москвы, где всё чаще звучали слова «международная обстановка», «обострение», «напряжённость». Иногда над деревней пролетали самолёты – не свои, не привычные колхозные кукурузники, а чужие, с низким, утробным гулом, заставляющим людей поднимать головы и замирать с замершим сердцем. Казалось, земля под ногами едва заметно дрожит от этого гула.
Алексей, придя вечером из кузницы, дольше обычного сидел на крыльце, ссутулив мощные плечи, вглядываясь в запад, где горизонт наливался багровым светом уходящего солнца. Его взгляд был нечитаем, но Анна знала, что он думает, о чём тревожится. Однажды вечером, при тусклом свете керосиновой лампы, он разбирал и тщательно чистил свою старую двустволку. Её металл поблёскивал в неверном свете, отражая пламя лампы. Анна сидела рядом на маленькой табуретке, штопая его выцветшую рабочую рубаху, и её лицо было удивительно сосредоточенным, почти отсутствующим. Она не подняла глаз, когда Катя, уже уложившая Машу, тихо заглянула в дверь. В их молчании, в их движениях, в их редких, едва уловимых взглядах, которыми они обменивались, без слов читалось одно: над ними, над их маленьким, идиллическим миром, сгущалась гроза. Та самая, июньская гроза, от которой нет спасения, и которая обещала разрушить всё, что они так тщательно строили и берегли. Воздух становился всё тяжелее, предвкушение чего-то необратимого давило, сжимая сердце.
Глава 2: Разлом. Отец
Утро 22 июня 1941 года в Ольховке началось как самое обычное, летнее, ещё до рассвета овеянное запахами свежей росы и парного молока. Но уже к полудню этот день разорвал привычный мир на до и после, словно молния, ударившая в вековой дуб. Алексей, как обычно, был в кузнице. Мерный звон его молота о раскалённый металл, шипение воды, куда он опускал раскалённую заготовку, гул горна – всё это было частью привычной симфонии его трудового дня. Он выковал очередную подкову, когда на улице послышались сначала встревоженные голоса, затем топот бегущих ног. Дверь распахнулась, и на пороге, запыхавшись, возник сосед Егор, бригадир из колхоза, с побелевшим лицом.
«Лёха! Война… Война началась!» – выдохнул он, хватаясь за косяк. Слова застряли у него в горле.
Алексей застыл с молотом в руке. Сердце, привыкшее к равномерным ударам, вдруг ёкнуло и забилось в бешеном ритме. Война? Какая война? Ведь говорили же, что граница на замке, что армия сильна… Он бросил взгляд на кузницу, на привычные инструменты, которые вдруг показались чужими и бесполезными.
Новости разлетелись по деревне со скоростью степного пожара. Клуб, где стоял единственный в Ольховке радиоприёмник, быстро наполнился людьми. Алексей пошёл туда, словно во сне, чувствуя, как внутри нарастает холод. Анна уже была там, держа Машу на руках, а Катя, бледная и серьёзная, прижималась к её юбке. Её глаза, обычно наполненные светом, сейчас были тёмными и огромными от ужаса. Дикторский голос Левитана звучал набатом, отбивая в сердцах каждого жителя Ольховки похоронный марш по мирной жизни. «Без объявления войны… вероломное нападение…» Эти слова звучали как приговор.
Лица людей были искажены шоком, неверием. Мужчины молчали, крепко сжимая кулаки, женщины всхлипывали, прижимая к себе детей. Несколько дней спустя Ольховка опустела. Повестки приходили одна за другой. На сельской площади, под теми же мирными яблонями, что всего несколько дней назад цвели, разыгрывалась трагедия. Плач женщин, сдержанные объятия мужчин, детские вопросы, на которые никто не мог ответить.
Алексей обнял Анну крепко, так крепко, как никогда прежде. В его взгляде была вся боль расставания, вся тревога за их будущее, вся клятва выжить. «Береги себя, Анна. Береги девочек». Слова давались с трудом. Он поцеловал Катю в макушку – она плакала беззвучно, упрямо сжимая губы, чтобы не выдать рыданий. Маша, ещё не до конца понимающая, что происходит, испуганно смотрела на серьёзные лица взрослых, на слёзы матери. «Папа, ты скоро вернёшься?» – спросила она, и этот невинный вопрос пронзил Алексея насквозь. «Конечно, доченька. Скоро. Вот разобьём врага и вернусь. Ждите меня». Это было обещание, данное небу, земле и самому себе. Он обнял их всех троих в последний раз, вдохнул их запах – родной, тёплый, запах дома. А потом повернулся и шагнул в строй, в шеренгу обречённых, но решительных мужчин, уходящих на войну.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.