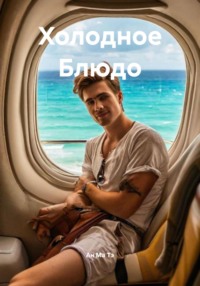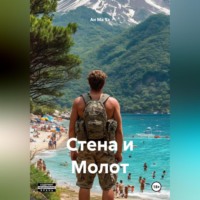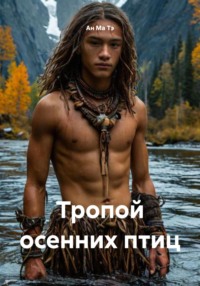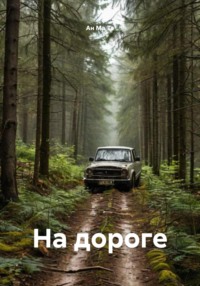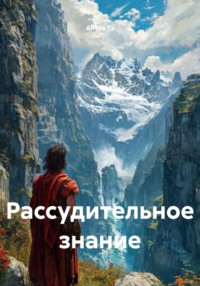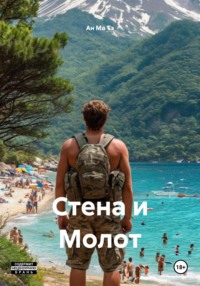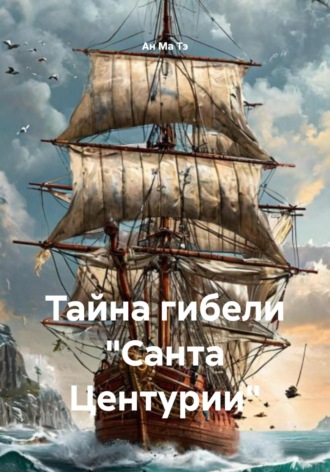
Полная версия
Тайна гибели «Санта Центурии»

Ан Ма Тэ
Тайна гибели "Санта Центурии"
Пролог
Как удивительно устроена человеческая жизнь. Насколько она многогранна, насколько причудливо играет разноцветными оттенками вещей, смыслов и содержаний. Как много всего она вмещает, и ты не перестаёшь удивляться, доставая из кладовых памяти всё новые и новые детали, и самое удивительное, что всё это происходило именно с тобой. На фоне мириадов пустяков, на фоне рутины, постоянных забот, вдруг замечаешь нити, которые факт за фактом, событие за событием связывают настоящее и прошлое. И эти нити не обрываются, не прячутся, они просто тонут во мгле других событий, чьей-то рутины и чьих-то забот, уходя ещё глубже в далёкое-далёкое прошлое. И вот, ты… который стоишь здесь, в настоящем… ухватил одну из нитей и потянул. Потянул тихо и осторожно, чтобы не спугнуть дыхание истории, эту неуловимую пыль тайны скрытой от нас людьми и веками. Эта пыль невесомым облаком овевает тебя, когда из глубины неведомого прошлого, встают герои и события, о которых ты не имел ни малейшего представления. Это облако тихо ложится на глаза, когда со страниц ветхого го письма эти люди начинают говорить с тобой, эту пыль порой можно почти почувствовать кончиками пальцев, когда разворачиваешь очень старый документ, написанный на другом языке за много лет до твоего рождения. Эта невесомая пыль, как туман встаёт перед мысленным взором, когда за мутной мглою начинают прорисовываться и проступать лица и фигуры. И в какой-то момент то, что было загадкой и тайной, вдруг доверяется тебе, как самому близкому другу и рассказывает всё до конца. И ты сидишь, открыв рот, потрясённый, слушая людей прошлого, которым ты смог стать, таким вот близким другом… просто однажды тихонько потянув за эту невидимую нить.
*****
Впервые о «Санта Центурии» я прочитал, будучи лет десяти или одиннадцати. Мама тогда стопками носила мне книги из Ленинградской городской библиотеки. Книги про путешествия, про приключения и про животных. Я читал запоем. Неведомые миры манили меня к себе, и моё воображение рисовало мне удивительный прекрасный мир наполненный приключениями, пальмами, тропическими морями и экзотическими животными. И вот, среди однажды принесённых мамой книг, была и эта. Название было под стать приключенческому роману: «Повенчаны с Морем». Кажется так. Или «Навеки с морем»… что-то похожее или близкое по смыслу. К моему некоторому разочарованию это не был приключенческий роман. Это был набор историй о пропавших без вести кораблях. Разные происшествия, по своему интересные, к тому же, снабженные комментариями от советского издательства, и даже некоторым набором иллюстраций. Я бы, конечно, предпочел книгу с богатым сюжетом и героями, которых любишь, как родных братьев, с которыми ты проходишь все опасности и горести, с которыми радуешься, вместе обретая желанную победу… и которым, да, которым, от всей души хочется подражать… Но книга, повторюсь, имела несколько иную направленность. Была там история и про, набившего всем оскомину, «Летучего Голландца» и про Бермудский треугольник, и про «Марию Селесту». Все, известные широкому кругу читателей, истории там были. Почему же мне запомнилась, казалось бы, ни чем не примечательная на фоне остальных, история о пропавшей шхуне? Сам рассказ был вполне себе короткий. Тысяча семьсот какого-то года быстроходная шхуна-клипер «Santa Centuria» вышла из порта Валетта на Мальте и взяла курс на Гибралтарский пролив. Кораблю предстояло выйти в Атлантический океан, обогнуть Африку и придти в Макао. Ничего себе поездочка. Да. До постройки Суэцкого канала тогда оставалось каких-то сто пятьдесят с лишним лет, поэтому судам, шедшим из Европы в Азию, приходилось делать такой огромный крюк. А это, по самым скромным подсчётам, примерно полгода пути. Кстати, до пункта назначения судно успешно дошло. В порту Макао шхуна выгрузила кардинала ФранческоПонти инескольких монахов-капуцинов, приняла на борт груз пряностей, почту представительства Святейшего престола Папы Римского в Китае и Сиаме и отправилось обратно. Судно отметилось в порту Катан-Паданга, недалеко от входа вМалаккский пролив, где пополняло запасы пресной воды и продовольствия и… пропало навсегда. Малаккский пролив, с его россыпью островов, уже тогда был любимым местом малайских, китайских и, кто его знает каких ещё там, пиратов. Но шхуна «Санта Центурия» была одним из самых быстрых судов своего времени, на борту было несколько пушек, и вся команда имела ружья и мушкеты. Командовал шхуной отставной офицер британского флота. Пираты, вздумай они напасть на своих джонках и тихоходных судах, получили бы достойный отпор. Однако, что-то пошло вопреки изначальному плану. Судно вошло в Малаккский пролив и пропало.
Так почему же в моём детском уме засела эта, банальная по своей сути, история? На то были две причины. Первая, на счёт «Санта Центурии» в книге имелась иллюстрация. Литография. Очень скрупулезно выполненный черно-белый рисунок. И было пояснение: «Папа Римский Пий VIблагословляет отплытие клипера «SantaCenturia» в порту Валетты. Мальта». Причал, стройный силуэт шхуны, команда на борту с обнажёнными головами, поднятый якорь и стоящий на помосте понтифик с поднятой рукой, осеняющий клипер крестным знамением, благословляя в долгий путь.
Вторая причина, по которой мне запомнилась эта шхуна, это крайне ехидный комментарий от советского издательства. Мол, посмотрите, даже молитва самого Папы Римского не уберегла шхуну от беды. Это вызвало улыбку и у меня. Рождённый и воспитанный в атеистическом Советском Союзе я мог только посмеяться над дремучими убеждениями людей живших в далёком прошлом. Я тогда был абсолютно уверен, что никакого Бога нет и быть не может. Настолько же сейчас, милостью Божией, я уверен в обратном.
Вот так, заочно, и познакомились мы с этой шхуной. Жизнь шла своим чередом. Я переходил из класса в класс, стал пионером, и, когда мне исполнилось двенадцать лет, мы переехали в Нальчик, в Кабардино-Балкарию. Новая обстановка, новая школа, новые друзья и новые враги. Всё новое. На уроках по истории древнего мира мы наперебой с ещё одним мальчишкой рассказывали о богах и мифах древней Греции, чем приводили учительницу в восторг, а одноклассников в тихое недоумение. Тимур Этезов, балкарец. На этой почве мы с ним и сдружились. Оказывается, знания черпали мы с ним из одного источника – Кун. Мифы Древней Греции и Древнего Рима. Он тоже интересовался историей, приключениями, тайнами морей, и в наших разговорах мы улетали далеко-далеко в воображаемые миры. Мы делились впечатлениями, обменивались книгами и журналами. Этот журнал принёс мне именно он. Никак не могу вспомнить название. То ли «Вокруг Света», то ли «Моря и Океаны». Не помню. Там то и была статья… Уже знакомая мне «Санта Центурия» и её английский капитан. Тот человек на шхуне на переднем плане, на той старинной литографии, капитан судна.Так я познакомился с Джоном Балтимором. В статье было несколько общих предложений о нём. Так, мол, и так, этот морской офицер, находясь на службе британской короны, проиграл морское сражение за Сан-Мигуэль, главный остров на Азорском архипелаге и вынужден был с позором уйти в отставку. По молодости лет я не придал тогда значения этим словам, лишь много позже я нашёл это место на карте. Группа островов между Европой и Америкой. Ближе к Европе. Идеальная база и порт для тех, кто путешествует в Новый Свет и обратно. Середина восемнадцатого века, отчаянная война между Францией и Англией за обладание колониями, в самом разгаре. Азорские острова – ключ к Новому Свету. Тот, кто владеет Азорским архипелагом, держит за горло все морские перевозки между континентами. И кроме моря, другого пути в те времена просто не было.
После проигранного сражения Джон Балтимор уходит с английской военной службы. Нанимается сначала к одному богатому дожу в Венеции и водит торговые суда по всему Средиземному морю, а затем его перенанимает Мальтийский Орден (читай Ватикан), чтобы совершить тот самый рейс. Так вот, причем, тут был Папа Римский. Тогда мне ещё совсем не казалось странным, что сам Папа, лично благословляет клипер в путь. Кто их знает, этих Пап… Может они с каждым кораблем так.
Потом ещё прошли годы. Много лет. Я закончил девять классов, успел немного поучиться в кулинарном техникуме, опять вернуться в школу и закончить одиннадцатый класс в 1994 году. Это было лето богатое на события. Я провалил поступление в Пятигорский Иняз, причем завалил именно русский, не английский. Понаставил запятых, где надо и где не надо. От этой болезни не вылечился до сих пор, так что прошу меня помиловать в этом случае. Зато удалось (моим родителям) поступить (меня) в КБГУ на платное отделение факультета социальной работы. И в этот лето я впервые пришёл в корейскую миссионерскую церковь.
За годы учёбы в университете я едва ли вспоминал «Санта Центурию». Какое было дело молодому студенту до маленькой заметки в книжке прочитанной много лет назад… На четвертом курсе я всерьёз приналёг на корейский язык. Примерно через год начал понемногу переводить в церкви. А через два года после окончания университета я уехал на учёбу в Корею. Как, и благодаря чему так вышло – история отдельная, к нашему повествованию имеющее опосредованное отношение. Важно, что я туда уехал. Потому что именно там… я вновь столкнулся с этим звучным именем – Santa Centuria, или Святая Сотня, если по-русски.
*****
Первый год учёбы на языковых курсах в Корее. Университет Кёнгхи. До сих пор помню этот симпатичный кампус и помпезные здания в готическом стиле среди сопок и скал. А как там красиво весной!.. Это была моя первая весна в Корее. Апрель. Как сейчас помню – 13-е число. Запомнил, потому что это день рождения моего отца. Но не только. В этот день я начал осознанные поиски того, загадочно пропавшего корабля. А вышло это так: я сидел на лекции по культурологии, одуревший от весны, от цветущей сакуры, от солнечного света и от улыбок японки МамиНадзавы, сидевшей рядом со мной. И вдруг, среди всего этого весеннего буйства молодых чувств, я услышал давно знакомое мне сочетание двух латинских слов. Санта Центурия. Это сказал преподаватель. Потускнело весеннее светило, опали цветы сакуры, Мами Надзава отодвинулась куда-то за Окинаву, и я будто бы вернулся в темную кухню в холодной Ленинградской коммуналке, и одновременно оказался рядом с Тимуром Этезовым сидящим на нагретой солнцем крыше гаража за 5-й школой города Нальчика.
– Кто-нибудь слышал о Санта Центурии? – повторил свой вопрос преподаватель.
Я, робко оглядевшись на класс (семеро студентов из Китая, один тайванец, трое из Японии, включая улыбашку-Мами, одна с Тайланда, двое из Казахстана и четверо, в числе которых был и я, из России), нерешительно поднял руку.
– Что ты знаешь? – приподнял бровь преподаватель. Остальная аудитория смотрела с какими-то сонными лицами. Никто больше не поднял руки.
– Эта шхуна пропала в Малаккском проливе в 1787 году. Думают, что она стала добычей пиратов.
– В 1786. – механически поправил учитель. (Я до сих пор помню его лицо, а вот его имя моя память уже не достанет из глубины прошедшего времени). – Хорошо, – продолжил он, – ты первый, который что-то ответил на этот вопрос… Так вот, – сказал он, обращаясь уже ко всем. – Там был один выживший – Элиот МакГилн, которого утром следующего дня подобрали малайские рыбаки. Он был ранен и плавал, держась за доску от корабля… – Преподаватель обвёл всех взглядом. Класс смотрел скучающе. Один я подался вперёд.
– Малайцы притащили его в деревню, как могли, ухаживали за ним. А через несколько дней он умер.
– Значит, это были, всё-таки пираты? – воскликнул я.
– Да, конечно. Скорее всего.
– Он что-то рассказал? – нетерпеливо спросил я.
– Да, наверное, – лицо лектора оставалось бесстрастным – наверняка он что-то рассказал, пока ещё мог говорить.
– И что? – я ожидал услышать ответ.
– И ничего. Я ж говорил вам, как важны языки. (Видимо речь шла именно об этом, пока я в окно любовался сакурой и лыбился в ответ японской студентке.) Никто из малайских туземцев не знал английского. Никто. Вообще. Да и кто бы их научил? И зачем?– преподаватель улыбнулся. – Он так и умер. И никто не понял из его слабой речи ничего…
На перерыве я подошёл к нему и ещё раз спросил об имени погибшего моряка с Санта Центурии. Элиот МакГилн. Шотландец по национальности. Подданный его величества короля английского ГеоргаIII. На мой вопрос, где можно найти источник, лектор сказал, что это можно сделать в университетской библиотеке.
Уроки закончились. Я не пошёл в кино с Мами. Я пошёл в библиотеку. Так начались мои поиски.
Глава первая. Жил да был епископ.
Как, по-вашему, выглядит библиотека? Скучное неприметное здание, где-нибудь на окраине городского парка. Входишь, предъявляешь читательский билет. Стоишь в маленькой очереди за стойкой, и тётка неопределенного возраста, с волосами собранными в пучок на затылке, в обязательных роговых очках, выдаёт тебе очередную стопку книг. Ты расписываешься и идёшь домой переваривать следующую порцию чужих фантазий. Так? В моём советском прошлом – да. А в Корее всё выглядело иначе.
Библиотека университета Кёнгхи – огромное многоэтажное здание в готическом стиле. На входе пропуск только по студенческим билетам. Таковой у меня имелся. Там я впервые проникся осознанием, что библиотека, это не сборник книжек художественной литературы. Это гигантское хранилище разнообразной, в первую очередь, научной информации. Диссертации, исследования, монографии и… исторические документы. Шёл 2002 год, оцифровка научных работ и документов только начинала производиться в Америке и Европе, хотя мне все эти нюансы были абсолютно неизвестны на тот момент.
Я поднялся на нужный этаж, ещё раз предъявил студенческий билет и прошёл в тихий кабинет. Женщина за столом удивлённо уставилась на меня из-за линз в роговой оправе. Хоть тут было что-то знакомое. Когда у неё прошёл первый ступор от моего появления, (видимо нога европейца ещё никогда не ступала на этот этаж) и я немного путано объяснил, что мне надо, она засомневалась и позвала ещё какую-то сотрудницу. Та, хоть и была помоложе, увидев меня, удивилась не меньше первой. Когда я повторил, что ищу «энциклопедию Британника», она начала что-то выяснять у меня на английском. (Да, это были те годы, когда белых иностранцев в Корее было ещё очень и очень мало). Наконец, когда я произнёс имя лектора по культурологии, дело сдвинулось с мёртвой точки. Меня позвали куда-то вглубь вереницы пустых кабинетов.
– Вообще-то мы не допускаем посторонних к такие старым книгам – она смущённо глядела на меня. – Но раз (эх, никак не вспомню его имя) профессор ….. вас направил сюда, то ладно. Только с книгой надо обращаться очень осторожно. Это подлинник 1813 года. Другого такого в нашей стране нет. Присядьте вот здесь.
Я сел за стол, ветровку и рюкзак положил рядом на стул. Через минуту женщина вернулась и положила передо мной на стол большой фолиант в светло-коричневом переплёте.
– Очень осторожно, – опять сказала она. – Это второе издание. Давайте лучше я сама открою…
Вам знаком запах старых книг? Это запах Истории. Это попытки людей живших и умерших задолго до вашего прихода в мир, что-то рассказать вам. Это как тихий крик, который слышится сквозь шелест старых жёлтых страниц «Мы тоже жили! Мы любили, мы страдали. Мы творили! Помните о нас!». Наверное, именно тогда я впервые услышал этот безгласный крик. Его нельзя услышать на бегу, его нельзя услышать мимоходом, между делом. Его нельзя передать в двух-трёх словах. Его можно услышать только здесь – «в пыли туманных библиόтек». В тишине, вдыхая пыль Истории.
Это был седьмой том “ENCYCLOPᴁDIABRITANNICA.VOL. R-T”. Кожаный переплёт. 1813 год. И когда я прикоснулся к этим старым страницам, мой разум пронзила мысль – этот год! Бородинское сражение было буквально вчера! А сейчас, на момент выхода вот этого конкретного тома, наши войска находятся в Париже. Отгрохотали пушки на Монмартре. Александр Первый купается в лучах славы Освободителя Европы. Русские офицеры и солдаты пьют в Парижских кабаках. А французские трактирщики, бегая с заказами, учат самое известное русское слово – «быстро!», давай, мол, выпить-закусить, да поживее! Французские бистрό появятся именно тогда. 1813 год… В этот год родился Джузеппе Верди и скончался Михаил Илларионович Кутузов: «ты сер, а я, приятель, сед»…О! Пушкину 14 лет. Год его первых стихов!
Так и мне узнать случилось,
что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь – и я влюблён!..
Эти мысли пронеслись за несколько мгновений, пока руки женщины открывали передо мной страницу с литерой «S». Санта Центурия оказалась в самом начале. Итак, перевод с английского (учите языки, юноша, учите!).
«Быстроходная шхуна-клипер, построенная, по прямому заказу Папской Области на судостроительной верфи в Генуе в 1771 году. Отличалась повышенной маневренностью и ходовыми характеристиками. Одно из лучших судов данного класса для своего времени. Годы службы 1771 – 1786 (1787?). Использовалось для особых заданий Папского престола. Вооружение 8 пушек. Экипаж от 8 до15 человек.
Капитаны: Кантони Санджори (итал: Cagntoni Sangiori) 1772-1778. Итальянец.
Гийом д´Эфонт (фр. Giomme d`Efonte) 1778-1781. Француз.
Джон Балтимор (англ. JohnStewartBaltimore) 1781-1786 (1787?).
Шхуна вышла в своё последнее плавание 17 марта 1786 года при личном присутствии и благословении Папы Пия VI. Цель поездки: доставить кардинала Франческо Понти и пятерых монахов-капуцинов в штаб-квартиру католической миссии в Макао длямиссионерского служения. Обратно привезти епископа СкорцоВиллари, его адъютанта, почту и другие грузы. Санта Центурия прибыла в порт Макао 9 сентября 1786 года. В обратный рейс клипер отправился с задержкой 24 октября 1786 года, в связи с болезнью епископа Виллари. В середине ноября, при выходе из Малаккского пролива шхуна подверглась нападению пиратов. Пережил нападение матрос Элиот МакКилн, который умер на острове Луонг (Малый Никобар. Little Nicobar) несколько дней спустя. Туземное население ничего по этому поводу пояснить не смогло. Сей факт стал известен из записей епископа Скорцо Виллари, который посетил остров в мае 1787 года по пути в Рим».
На этом сведения, данные в энциклопедии Британника, заканчивались. Понятно, что тогда я не читал сразу с листа, я старательно переписал всю заметку, а переводил уже в общежитии. Когда я вышел из кабинета, кажется, женщины-библиотекари испытали облегчение. Кто этих иностранцев длинноносых знает. Ушёл, и гора с плеч. Однако, я заявился ровно через неделю. Почему? Всё дело в нашем внимании. Мне не всегда удается замечать то, что находится перед носом. Вы тоже не заметили? И я не заметил. Точнее, заметил позднее, когда переводил незнакомые слова из энциклопедии. Что не так? Не что, а кто. Скорцо Виллари, вот кто. Санта Центурия должна была забрать его, поэтому задержалась, пока он болел. Должна была забрать, и не забрала. Выходит так. Как он оказался на этом острове через полгода после отплытия Санта Центурии? Значит, на шхуну он не попал. Выходит, что отправился он на родину только через полгода после отхода клипера. Не слишком шустро. Мда, это вам не на следующий рейс в аэропорту сесть с небольшой доплатой. Восемнадцатый век на дворе, дела делаются, мягко говоря, не быстро. Пока болел, пока дожидался оказии, пока доплыл.
Культурология была через неделю. Преподаватель поинтересовался, был ли я в библиотеке. Надо же, вспомнил. Я ответил, что да, мол, был, всё так, как уважаемый профессор говорил. Только вот не МакГилн, А МакКилн (в корейском языке буквы «К» и «Г» иногда читаются одинаково). Он покивал и спросил, не искал ли я епископа? Того самого, что сделал записи. Я ответил, что нет. Он сказал, что если мне интересно, то можно поискать там же.
Пока шли уроки, я сидел и лениво размышлял, а стоит ли снова лезть в эти архивы. Санта Центурия потонула, все погибли, епископ не даст соврать, так что тут всё ясно. И всё же, что-то беспокоило меня, какая-то мелочь, некая лёгкая нестыковочка. Странность. Я сходил на обед, и собрался уж окончательно махнуть рукой на все эти древности, как остановился перед большой картой, висящей в фойе перед входом в столовую. Не настоящей картой, а просто контурном оформлении на всю стену в виде огромной Евразии. Контур с Америками висел на противоположной стене фойе. Глаза поневоле нашли Малаккский пролив. Так прошла Санта Центурия, и так же плыл его преосвященство Скорцо Виллари. И вдруг вопрос сам собой вспыхнул в моей голове – а откуда епископ узнал о гибели клипера? Он ведь не мог случайно оказаться на том острове! Чтобы приехать, записать и ещё дать знать всему миру имя погибшего шотландского моряка, надо это знать! Этот Виллари явно знал куда ехать и кого искать. Но как? Восемнадцатый век на дворе. Спутниковую связь изобретут ещё не скоро. А от Макао до Никобарских островов ого-го, и всё морем. И я устремился в библиотеку.
Теперь всё было быстрее. Только том другой. Второй. На литеру «Си» – Скорцо Виллари. Никого не было. Библиотекарь стояла и молча смотрела на меня. Я растерянно хлопал глазами. Скорцо… Скорцо… Наверное литера «S», и я подняв на женщину виноватые глаза попросил принести прошлый том. Седьмой.
Но и там меня ждало разочарование. Никакого СкорцоВиллари на букву «S» не было. Библиотекарша сочувствующе смотрела на меня. Я со вздохом встал. Глупый мальчик из Нальчика… Ты ожидал, что перед тобою откроются все тайны, только открой книжку на нужной странице? Мда…стыдно признаться, но в глубине души, я надеялся именно на это. Глупый маленький мальчик. Я сконфуженно направился к выходу. Портреты почтенных мужей прошлого с белыми и жёлтыми лицами с презрением смотрели мне в спину с высоких стен. Глупости всё это. Какие ещё тайны прошлого? Я ускорил шаг.
Лифт опускался медленно, останавливаясь на каждом этаже, впуская и выпуская студентов, магистров, докторов всяческих наук. Скорцо-Скорцо, почему тебя там нет? Ты ведь епископ,а ведь это почти как генерал, только у католических попов… Скорцо… Про тебя должно быть сказано, хоть что-нибудь. Скорцо-Скорцо… Как же тебя найти? Я вышел из огромного здания библиотеки и направился к выходу из кэмпуса. Скорцо…
Вдруг я подпрыгнул. Идиот!!! Да не Скорцо! А Виллари!!! По фамилии искать надо. Я развернулся и пулей полетел обратно. Снова библиотека, вестибюль, лифт… А, ну его! И я рванул вверх по лестнице. Пятый этаж? Плевать, и не на такие бегали.
Когда я влетел, красный и запыхавшийся, опять в тот же самый кабинет у тёток произошло что-то вроде нервного хихиканья.
– Простите. – задыхаясь прохрипел я. – Я ошибся. Мне нужен том на литеру «V».
Это был восьмой том VOL. U-V.Его бережно положили передо мной.
– Может, я поищу? – спросила библиотекарь . Я помотал головой.
– Если можно, то я сам. Я осторожно. – пообещал я.
Дрожащими руками я принялся листать страницы. Вот оно!!! Виллари Скорцо. Епископ! Годы жизни…
«Виллари СкорцоТреччини (Villari ScorzoTreccini ). Урождённый граф Треччини. Епископ католической миссии в китайском Макао. 1705-1787. Родился в Пиккардии в родовом поместье Треччини. Будучи юношей, дал обет безбрачия, чем вызвал гнев отца. Уехал в 17 лет из Пикардии в Сиенну. Поступил в Сиенский университет. Изучал богословие, латынь и греческий. Окончил университет в 1729 году со степенью магистра теологии. С 1727-1739 преподаёт в Сиенском университете. В то же время изучает медицину и химию.В 1739 доктор теологии. В 1740 году получает перевод в Рим, где работает при канцелярии Святейшего престола в Ватикане. В 1746 году направляется с миссией в Голландскую Ост-Индию. Несет миссионерское служение до своего отъезда в апреле 1787 года в Рим. Умер по пути в Италию в июле 1787 года на борту двухпалубного английского военного линейного фрегата «Олд Глори». Похоронен в море командой корабляблиз Кейптауна в виду Мыса Доброй Надежды. Весь архив епископа был передан в канцелярию святейшего престола его слугой Джокко Тестардини».
Вот и всё об этом человеке, как говорила Шахерезада. Умер дедушка и не доехал до дома. Похоронен в море. Сколько там бишь ему было? 82 года… Ого. Крепкий дед. Сегодня мало кто доживает до таких лет, а уж в те времена… Та-ак, и прожил он в Ост-Индских краях аж 42 года. Ладно, пусть будет 41, один года на туда-сюда. Всё равно, очень много. Целая жизнь. Не очень-то спешили его заменить. А как он попал на остров Луонг и откуда знал, где искать бедолагу МакКилна, так ничего и не понятно. Зато есть новые зацепки. Можно теперь поискать сведения по английскому фрегату «Олд Глори» и ещё, теперь мне известно имя его слуги – Джокко Тестардини. Только где их искать? Если в энциклопедии сведений немного, то должны быть узкоспециализированные источники. О кораблях, например. Это было так давно, что никакой государственной тайны уже не составляет. Не должно составлять. И о таком епископе, явно непростом, должны быть ещё сведения. Его слуга вёз целый архив… Ага, на итальянском. Кто бы мне его ещё дал… и перевёл заодно.