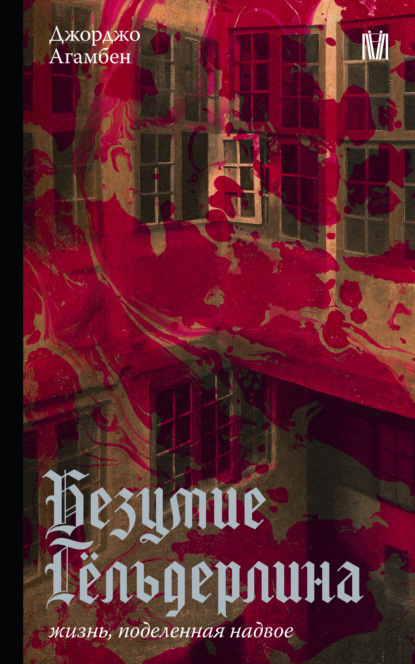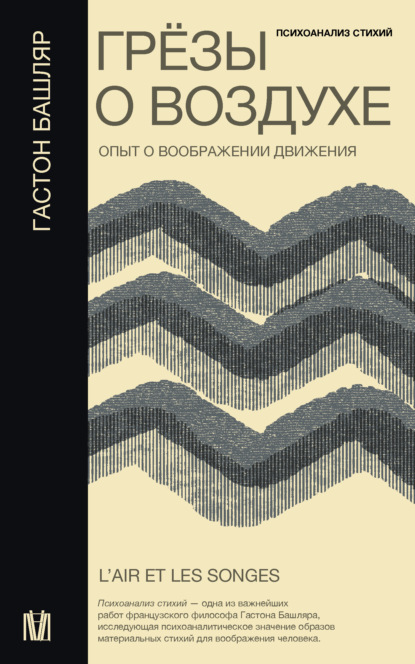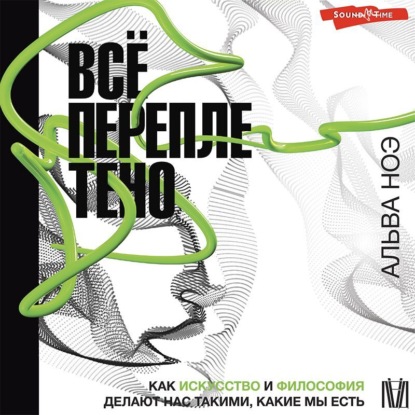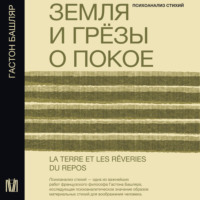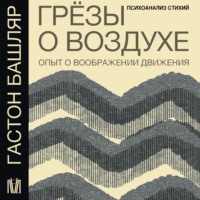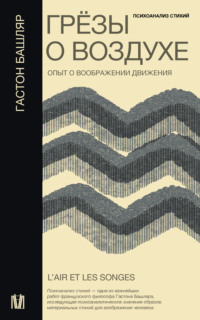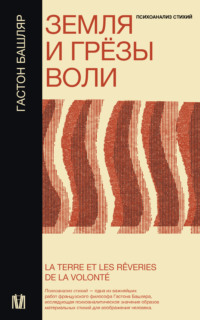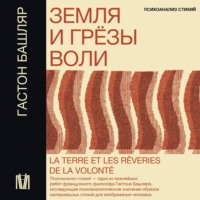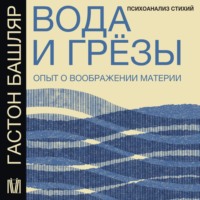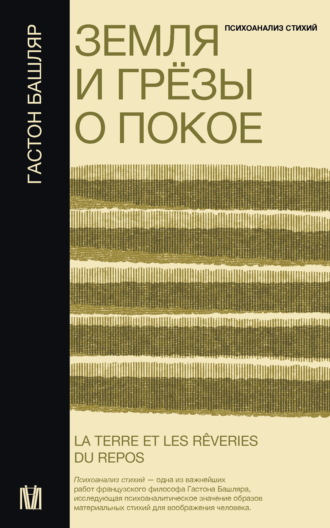
Полная версия
Земля и грёзы о покое

Гастон Башляр
Земля и грёзы о покое
Слово современной философии
Gaston Bachelard
LA TERRE ET LES RÊVERIES DU REPOS
Печатается с разрешения Les Editions Corti All rights reserved
Перевод с французского Бориса Скуратова

© Editions Corti, 1942, 1943, 1948, 1947
© Б. М. Скуратов (наследники), перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
Земля – это стихия, весьма подходящая для того, чтобы скрывать и являть вверенные ей предметы.
«Космополит»
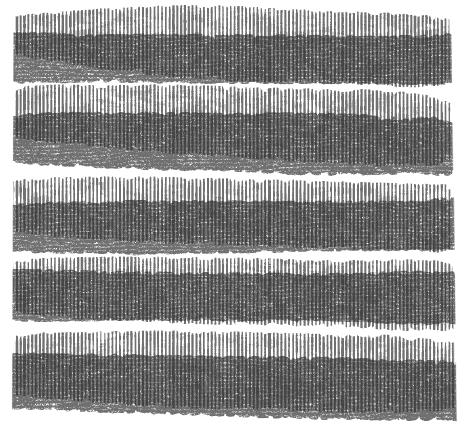
I
Мы начали изучение материального воображенияземной стихии в только что вышедшей книге «Земля и грезы воли». В ней мы рассматривали преимущественно динамические впечатления или, точнее говоря, динамические импульсы, пробуждающиеся в нас, когда мы формируем материальные образы земных субстанций. По существу, представляется, что стоит нам прикоснуться к различным видам земной материи с любознательностью и смелостью, как они пробудят в нас волю к их обработке. Итак, мы полагали, что можем говорить об активистском воображении, и привели множество примеров воли, которая грезит и, грезя, наделяет свои действия будущим.
Если бы можно было систематизировать все импульсы, доходящие до нас изматерии вещей, то на наш взгляд, удалось бы выправить слишком формальные элементы психологии намерений. Мы отличали бы замыслы мастера от замыслов рабочего. Мы поняли бы, что homo faber – это не просто наладчик, но еще и формовщик, литейщик, кузнец. Под выверенной формой он стремится обнаружить необходимую материю, материю, которая может действительно стать опорой формы. В воображении он переживает такую опору; он любит материальную жесткость, которая только и может придать форме длительность. И тогда человек как будто пробуждается для противодействия, для деятельности, предощущающей и предвидящей сопротивление материи. На этом и основывается психология предлога протuв, движущегося от впечатлений непосредственно данного, неподвижного и холодного против в сторону против сокровенного, защищенного множеством окопов, никогда не прекращающего сопротивление. Итак, изучая в предыдущей книге психологию противления, мы начали рассмотрение образов глубины.
Но образам глубины присущ не только этот признак враждебности; для них характерны и аспекты гостеприимства, аспекты приглашения, а также прямо-таки динамика привлечения, привлекательности, призыва к легкому обездвижению с помощью мощных сил земных образов сопротивления. Стало быть, наше первое исследование воображения земли, написанное под знаком предлогапротив, следует дополнить исследованием образов, находящихся под знаком предлога внутри (dans).
И как раз изучению образов последнего типа мы посвящаем настоящую работу, которая, следовательно, представляет как естественное продолжение предыдущей.
IIВпрочем, когда мы писали эти две книги, мы не стремились к абсолютному разделению двух точек зрения. Ведь образы – не понятия. Они не изолируются в своих значениях. Они именно стремятся преодолеть свои значения. И тогда воображение становится многофункциональным. Не успели мы различить два аспекта, как их уже надо объединять. Фактически в весьма многочисленных материальных образах земли можно ощутитьдействие амбивалентного синтеза, диалектически объединяющего против и внутри и демонстрирующего несомненную слитность процессов экстравертирования и интровертирования. Начиная с первых глав нашей книги «Земля и грезы воли» мы показывали, с какой яростью воображение стремится копаться в материи. Все значительные силы человека – даже когда они развертываются вовне – воображаются в сокровенности.
А следовательно, в той же степени, в какой в предыдущей книге мы отмечали во встреченных образах все, что относится ксокровенности материи, в настоящей работе мы не преминем подчеркивать то, что относится к воображению враждебности материи.
Если бы нам возразили, что интровертивность и экстравертивность следует характеризовать исходя изсубъекта, мы ответили бы, что воображение и есть не что иное, как субъект, перенесенный внутрь вещей. В таких случаях образы несут на себе «клеймо» субъекта. И клеймо это настолько отчетливо, что в конечном счете именно посредством образов можно провести самую несомненную диагностику темпераментов.
IIIВпрочем, в этом кратком предисловии мы хотим попросту привлечь внимание к обобщенным аспектам наших тезисов, и лишь при встрече с конкретными образами – прояснить более частные проблемы. Итак, наскоро продемонстрируем, что всякая воображаемая материя, всякая материя, о которой размышляют, сразу же становится образом сокровенности. Сокровенность эта считается отдаленной; философы втолковывают нам, что она скрыта от нас навсегда, что стоит приподнять над тайнами субстанции одно покрывало, как тут же натягивается другое. Но эти доводы здравого смысла не останавливают воображение. Оно тотчас же находит ценность всякой субстанции. Стало быть, материальные образы немедленно трансцендируют ощущения. Образы формы и цвéта вполне могут быть преобразованными ощущениями. Материальные образы приводят нас к более глубокой эмоциональности, и именно поэтому они укоренены в более глубинных слоях бессознательного. Материальные образы субстанциализируют некийинтерес.
Эта субстанциализация сгущает многочисленные и разнородные образы, зачастую рождающиеся в ощущениях, столь отдаленных отявленной реальности, что кажется, будто внутри воображаемой материи содержится целая ощутимая вселенная хотя бы в потенции. И тогда для того, чтобы вывести всю диалектику грез, касающихся внешнего мира, уже не будет достаточно стародавнего дуализма Космоса и Микрокосма, вселенной и человека. Тогда речь пойдет об Ультракосмосе и Ультрамикрокосме. Мы грезим по ту сторону мира и по сю сторону наиболее четко определенных человеческих реалий.
Стоит ли тогда удивляться, что материя влечет нас в глубины своей малости, внутрь своей зернистости, к самóй изначальности своих зародышей? Нам понятно, почему алхимик Жерар Дорн смог написать: «Нет никаких границ для центра, бездна его качеств и арканов беспредельна»[1]. Это происходит потому, что центр материи становится центром интересов, входящих в царство ценностей.
Разумеется, при таком погружении в бесконечно малые области субстанции наше воображение доверяет самым что ни на есть необоснованным впечатлениям. С этой точки зрения материальные образы у людей, руководствующихся рассудком и здравым смыслом, считаются иллюзорными. Тем не менее мы проследим перспективу этих иллюзий. Мы увидим, как совершенно наивные и реальные первообразы недр вещей, взаимовложения зерен, способствуют нашим грезам о сокровенности субстанций.
И как раз грезя о такой сокровенности, грезят о покое бытия, об укорененном покое, о покое, обладающемнапряженностью, а не просто представляющем собой чисто внешнюю неподвижность, которая царит между инертными предметами. Именно поддаваясь соблазну этого сокровенного и напряженного покоя, некоторые души определяют человека через покой, через субстанцию, в противоположность усилиям, затраченным нами в предыдущем труде, чтобы определить человеческое существо через внезапность и динамизм.
Из-за невозможности вывести в книге о стихиях метафизику покоя мы предприняли попытку охарактеризовать его наиболее непреложные психические тенденции. Если взять покой в его человеческих аспектах, над ним с необходимостью будет доминироватьинволютивная психика. Уход в себя (le repliement sur soi) не может оставаться абстрактным понятием. Он наделяется повадками свертывания, тело становится объектом для самого себя и касается самого себя. Стало быть, для нас оказывается возможным привести образы этого свертывания.
Мы рассмотрим образы отдыха, убежища, укорененности. Несмотря на весьма многочисленные их разновидности, вопреки очень важным различиям в их внешнем виде и формах, мы призна́ем, что все эти образы являются если не изоморфными, то, по крайней мере, изотропными: все они советуют нам произвести одно и то же движение возвращения к истокам покоя. Например, дом, чрево и пещера отмечены одной великой чертой возвращения к матери. В этой перспективе повелевает и руководит бессознательное. Онирические ценности становятся все более стабильными, все более регулярными. Все они устремлены в сторону абсолютизации ночных, подземных сил. Как пишет Ясперс, «подземные силы не желают, чтобы их считали относительными, и если они, в конечном счете, торжествуют, то без посторонней помощи»[2].
Именно этими ценностямиабсолютного бессознательного мы руководствовались в поисках подземной жизни, которая для стольких душ является идеалом покоя.
Часть I
Глава 1
Грезы о материальной сокровенности
Вы хотите знать, что происходит внутри вещей, и довольствуетесь созерцанием их внешнего вида; вы хотите вкушать сердцевину дерева, а сами возитесь с его корой.
Франц фон Баадер[3]Мне хотелось бы стать подобным пауку, вытягивающему из живота все нити своего произведения. Пчела мне ненавистна, а мед для меня – продукт воровства.
Джованни Папини[4], «Конченый человек»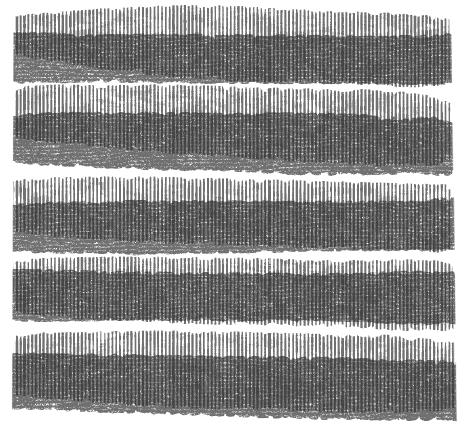
I
В «Секретах зрелости» Ганс Каросса[5] пишет: «Человек – это единственное создание на земле, у которого есть воля к заглядыванию внутрь других созданий» (Trad., р. 104). Воля к заглядыванию внутрь вещей делает зрение проницательным, проникающим. Она превращает зрение в некое насилие. Она обнаруживает слабое место, трещину или щель, через которые можно силой выведать секрет скрытых вещей. По поводу этой воли к заглядыванию внутрь вещей, к подсматриванию того, чего не видно, чего не следует видеть, формируются странные напряженные грезы, грезы, из-за которых морщится межбровье. Речь идет уже не о пассивном любопытстве, дожидающемся поразительных зрелищ, но об агрессивной, в этимологическом смысле надзирательской (inspectrice) любознательности. Вот, например, любопытство ребенка, ломающего игрушку, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Если эта любознательность взломщика и в самом деле естественна для человека, то разве не удивительно (скажем это мимоходом), что мы не сумели дать ребенку игрушку, обладающую глубиной, игрушку, которая действительно платила бы за глубинную любознательность? Мы набили Петрушку опилками и еще удивляемся, что ребенок в своей воле к изучению анатомии ограничивается тем, что рвет его одежду. Мы помним лишь о потребности разрушать и ломать, забывая, что действующие силы психики притязают на то, чтобы отвлечься от внешнего вида и увидеть нечто иное, потустороннее, внутреннее, словом, избежать пассивности видения. Как натолкнула меня на мысль Франсуаза Дольто, целлулоидная игрушка, игрушка поверхностная и производящая ложное впечатление тяжести, несомненно лишает ребенка множества полезных для психики грез. Некоторым детям, имеющим массу интересов и жадным до реальности, психоанализ, знающий детей, справедливо рекомендует игрушки крепкие и тяжелые. Игрушка, наделенная внутренней структурой, дала бы нормальный выход пытливому взгляду, воле к разглядыванию, которому необходимы глубины
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Цит. по:Jung C. G. Paracelsica, р. 92.
2
Jaspers K. La Norme du Jour et la Passion pour la Nuit. Trad. Corbin // Hermes. I, janvier 1938, p. 53.
3
Баадер, Франц Ксавер фон (1765–1841) – нем. философ и теолог. Утверждал согласие веры и разума в рамках теории познания, где субъект и объект взаимно проникают друг в друга. Наряду с Шеллингом считается одним из крупнейших натурфилософов немецкого романтизма. Противник деизма Руссо и кантовской критики. В церковных вопросах отвергал главенство Папы, выступая за демократию в Католической Церкви, которая должна управляться Вселенскими Соборами.– Прим. пер.
4
Папини, Джованни (1871–1956) – итал. писатель. Основатель нескольких журналов в эпоху футуризма. Философ-самоучка и поэт. Здесь цитируется автобиография «Конченый человек» (1912).– Прим. пер.
5
Каросса, Ганс (1878–1956) – нем. писатель. По образованию – врач. Испытал влияние Гёте. Основные темы романов – страх смерти; жизнь как страдание. Роман «Секреты зрелости» (1936).– Прим. пер.