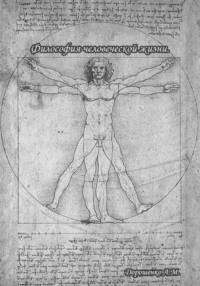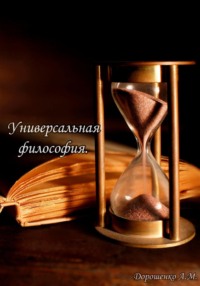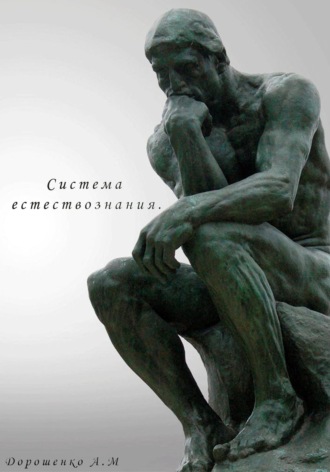
Полная версия
Система естествознания
Естественное есть то, что познаётся нами как взятое непосредственно из самой природной реальности или, как её ещё называют, первозданной, девственной природы. Искусственное это и то, что мы создаём, используя полученные знания о природе и материи, а также свою способность моделирования и конструирования из естественного, как материального, взятого уже в качестве материала. Следовательно, искусственное есть то, что создаётся нами из материи, точнее сказать, из познанной нами материи, находящейся в лоне естественного, но уже взятой в качестве своей объективности, как объекты природы. Такое её полагание привело к тому, что искусственное по отношению к естественному было определено ещё и как чисто техническое, позже превратившееся просто в технику. Ещё у греков искусственное и искусство обозначалось понятием - (технэ, означающей искусство, как универсальное познание и его практическое использование), которым мы стали обозначать объекты самой техники, являющиеся уже некими искусственными объектами, созданные руками человека.
В основе естественного лежит материя, понимаемая уже как объективная реальность. Вследствие чего знания о ней считают также естественными знаниями. В основе конструирования простейших механизмов и технических устройств в лоне естественного лежат наши чувственные восприятия или ощущениях, на которых и с помощью которых, мы объективируем то, что берём в качестве конструктивных элементов для создания искусственной природы. Ими являются сами природные реальности или же их некие части. Примерами, этого могут являться простейшие устройства для измерения температуры, времени, электрического тока, силы света и т.д. и т.п. Наша способность ощущения тепла привела к построению прибора, способного его визуализировать. Этим устройством и стал термометр, определяющий меру количества тепла, которым выступает температура человеческого тела. Ощущение периодичности и повторяемости явлений природы – в прибор для её измерения – часы; давления атмосферы – в барометр; давления газа – в манометр и т.д. и т.п. Первые приборы стали теми средствами, которые стали переводить наши чувственные ощущения в визуальные показания приборов. В основу их моделирования и конструирования, кроме знаний о естественном, была положена ещё и сама материя, но уже в виде материала. Таким образом, в основе конструирования лежит сама материя, служащая неким материалом для изготовления элементов конструкций или же тех или иных устройств, приборов и машин. Форма этих конструкций кардинально отличается от природных форм, хотя и является схожей с ними. Различие же их связано с тем, что при их конструировании используются геометрические формы и линии – математику. Через построения устройств и приборов была осуществлена “негация” (отрицание) материи, вследствие чего, она стала выступать как мёртвая материя, как материал конструирования. Такая возможность появилась вследствие того, что актуализировалось движения материи, а не она сама. Через движения её фиксируется и определяется, что происходит и с самой материей. Но, если материя совершает свои собственные движения, которые невозможно использовать, то тогда мы идём на то, что начинаем через неё воспроизводить и создавать, то или иное, имитирующее её движение устройство, прибор или машину. Это воспроизводство движения материи в самом простейшем случае есть её трансляция, как простое перемещение в пространстве.
Дальнейшее развитие техники связано с тем, что в лоне движения выделятся проблема, связанная с увеличения скорости движения тел. А это уже означало то, что от простейших приборов и устройств, начинает совершаться переход к устройствам и приборам, которые способны не только сами создавать движение, но ещё и способные увеличивать скорость своего движения. Этими устройствами становятся тепловая и электрическая машины, а затем и сама материя, которой является вода, воздух, света и т.д., под действием которых и создаётся тот или иной вид движения. Использование математики и её дальнейшая формализация по отношению к материи и движению приводит к тому, что использования устройств и машин выводит нас за рамки самого процесса познания вследствие того, что они сами становятся уже некими элементами нашего познания, а потому способствуют его развитию. Позднее они сами начинают составлять ещё и некую всеобщую тотальность самого нашего познания.
Мы развиваем и усовершенствуем машины и устройства, создаём на их базе новые их виды, которые выступают для нас в такой же объективной и естественной форме, как выступает и сама материя. Но эта материя уже является неким искусственным материалом, из которого создаётся нечто, путём моделирования и конструирования, да ещё и с обязательным использованием математики. Именно поэтому, мы говорим о такой материи как об идеальной и несоответствующей самой природе. Вот почему идеальную материю мы помещаем в лоно естественного, т.к. в этом лоне материя выступает только в своих количественных, а не качественных атрибутах. В лоне количества, вообще – то мы должны говорить о качествовании, а не о качестве той или иной природной реальности. Количественные атрибуты обязательно, а ещё и, с необходимостью, несут в себе математику.
В рамках естествознания сама техника начинает, переходит на некий новый уровень своего развития, который связан с замещением познания человека результатами, которые даёт машина или же то или иное техническое устройство. Человек, создавая технику, становится на путь своей собственной “негации”, т.к. полагает свой чувственный, а затем и разумный мир в лоно машины, как элемента техники. Вот почему, в настоящее время, мы имеем не только чувственные, но ещё и разумные машины. Начиная с конструирования устройств, основанных на отождествлении внешнего человеческого с внешним материальным, мы пришли к отождествлению внутреннего, человеческого с внешним машинным, техническим и механическим. Такова эволюция нашего познания, связанная с “негацией” и самого познающего в самом процессе познания. Говоря о негации, мы, с необходимостью, должны отличать её от абстрагирования. Абстрагирование есть простое отбрасывание того, что является не основным, не главным в поведении той или иной природной реальности. Негация же есть растворение одного в другом, т.к. в поведении природной реальности можно проявиться, а то и просто стать на первый план то, что мы отбрасывали и не учитывали.
В рамках естественного негируется природное, а потому, негируется и сама физическая наука. Эта негация физической науки приводит к тому, что она появляется в лоне искусственного в виде техники, становясь при этом сама этой техникой. Именно поэтому, у многих учёных существует такое чисто техническое представление о физической науке. Если мы пройдём этот путь в обратном направлении то, легко обнаружим, что физика и техника в рамках естественного все – таки остаются различными и вообще – то не являются тождественными. Физика изучает природу, а также то, как что – то рождается. Техника же есть имитация материи, а не природы, некая математизация, называемая нами просто материализацией, осуществляемой с целью создания различных устройств и машин. Идеальная “природа” есть техника, а потому её и называют второй природой. Это имеет отношение не только к физической науке, но и к другим естественным наукам.
В настоящее время, многие говорят о том, что контролировать развитие техники невозможно, как будто мы умеем контролировать природу. Оказывается, что технику как раз мы можем контролировать уже потому, что этот мир есть идеальный мир, созданный нами, а потому, как не нам его контролировать, развивать, изменять и даже направлять его развитие. Если же мы сами не хотим этого делать, то это вовсе не означает, что технический мир не может быть упорядочен и стать подконтрольным человеку. Такое представление связано, скорее с тем, что мы развивает те или иные устройства и машины не в лоне понимания их генесиса развития, а в лоне их стихийного и неудержимого развития. А потому эта стихийность создаёт как бы кажущуюся невозможность управления и контроля самого мира техники.
В книге автора “Метамеханика природы”, представлена динамика развития технических систем, а также общие законы её построения и общий генесис её развития. Поэтому, мы не будем повторять то, что уже сделано, а укажем только на то, что динамика системы техники ведёт нас к тому, что новое, выявленное нами качество познания, приведёт нас к информационной технике, вершиной которой станет “механический” или же “технический” человек. Воздействие на природу такого технического “существа” будет именно таким, какое на неё оказывает и современный человек.
В рамках естественного, искусственное ограничивается его рамками, но в рамках искусственного, естественное также является ограниченным. Если, мы не делаем такого ограничения в рамках естественного, то тогда искусственное становится просто неограниченным. Под ним в этом случае можно понимать не только технику, но и все искусство. Именно для выявления и определения искусственного как некого технического, мы и полагаем его в лоно естественного, точнее сказать, мы именно так его опредмечиваем, осуществляя это путём выделения области, в которой оно непосредственно находится и лежит. В анализе это есть необходимый этап, т.к. в противном случае, мы просто не сможем понять, о чем именно идёт речь. Естественное и искусственное тогда просто растворятся друг в друге. В физической науке, а тем более, в физической литературе с таким “растворением” мы сталкиваемся постоянно и повсеместно, вследствие чего порой бывает невозможно понять, о чем говорит или пишет тот или иной автор. Чтобы убедится в этом, достаточно взять любую литературу по физике и прочитать, о чем ведёт в ней речь тот или иной автор. Мы вам рекомендую проделать это, и убедится самим.
Мы коснулись этого в связи с тем, что почти все науки, в том числе и естественные, а потому и само естествознание, определяются либо через то, что они познают, либо через некую другую область, по отношению к которой их рассматривают или же просто полагают. Это позволяет снять субъективность в нашем познании и даёт возможность варьировать различными представлениями, идеями и мнениями о познаваемом. Удержание предмета, объекта или области изучения, позволяет выявить составляющие, лежащие в этом предмете, объекте, а потому и положить их в само наше познание.
Мы рассмотрели только естественное и искусственное и только в лоне материальности, в лоне тотальной объективности, телесности и протяжённости. Искусственное, в таком полагании выступает как техническое, как сотворённое руками человека с использованием разума, но выраженное уже в виде неких имитаторов, которыми являются материальные структуры, механизмы, приборы и машины. Основу этого вида искусственного составляет наша способность пользоваться знаковыми и математическими формами. А потому дальнейшее развитие искусственного приводит к тому, что оно заменяется понятием техническое, или просто понятием техники, подчёркивая при этом тот факт, что в её основе лежит именно математика. Общее понятие искусственного редуцируется в понятие техники, потому что кроме неё, выделяется ещё одна сфера деятельности человека, так называемое чистое искусство, составляющие гуманитарные науки. Техника и технические науки определяют рамки самого искусства, которое составляют уже гуманитарные науки. Это приводит к тому, что искусственное делится на техническое и гуманитарное, основу которого составляют знаковые и образные представления самого познаваемого. Их различие связано ещё и с тем, что в лоно гуманитарных наук, в само искусство не проникает математика, а потому познавать его, используя математику, мы просто не можем. Гуманитарные науки, поэтому и не формализованы математикой, в отличие, от технических наук. Но, так как мы говорим о естественном, то анализ гуманитарных наук по отношению к техническим мы представлять не будем. Выше мы только указали различие их оснований. Поэтому искусственное в лоне естественного есть уже техническое, или просто то, что мы называем техникой.
1.3. Естествознание как система знаний о естественном.
Мы уже говорили, что зарождение естествознания связано с переходом от изучения и познания отношений природа – человек к изучению и познанию отношений объект – субъект. На первых этапах своего развития естествознание включало в себя все знания, полученные в результате познания природы, а затем ещё и всего того, что было открыто и изучено к настоящему моменту времени, уже к началу третьего тысячелетия. Все это указывает на то, что естествознание постоянно развивается и пополняется новыми знаниями. Вследствие чего в настоящее время снова появилась тенденция к возрождению естествознания. Но, как оказалось, нового импульса к его развитию она так и не дала вследствие того, что наши знания постоянно развиваются, дополняются и изменяются. Мы же просто зафиксировали момент появления учения о естественном и самого естествознания, чтобы по отношении к нему говорить о неком новом этапе или периоде его развития.
В современных работах по естествознанию появляется тенденция его рассмотрения именно из лона отдельной и конкретной взятой нами естественной науки. Кроме такого подхода и представления о естествознании существует подход, связанный с тем, что под ним уже понимают все существующие естественные науки, к которым относятся: физика, химия, биология, астрономия, география, а также, и другие науки, выделенные из их лона и полученные путём их простого перемешивания, или же, так называемого взаимного проникновения друг в друга, которое называют их интеграцией. Отметим, что эти подходы к самому синтезу наук не имеют никакого отношения. Мы говорим именно о смешении наук, а потому как о их некой совокупности, потому что синтез наук не есть их простое и чисто внешнее объединение, тем более, некое их соединение только потому, что они имеют некоторые сходные, общие элементы и объекты изучения, а ещё и схожие способы и методы познания. Такой подход к естествознанию и к естественным наукам показывает, что у нас просто нет метода с помощью, которого, можно было бы создавать различные системы знаний, отражающие и несущие в себе уже и саму системность естественных наук. Поэтому, в настоящее время, естественные знания и естественные науки представлены в виде некого набора фактов, отдельных теорий, положений, законов, характеристик, величин и т.д. и т.п. Многие авторы и учёные называют этот набор фактов просто информацией, не давая себе отчёта в том, что такое есть сама информация, не говоря уже о том, чтобы найти и выяснить, что породило и откуда появилось и взялось само понятие информации, тем более, выявить и определить основания, на которых родилось и покоится уже само понятие – информация.
Хорошо известно, а ещё и неоднократно осуществлялось в истории самого нашего познания то, что только построение и разработка соответствующего метода познания может упорядочить информацию, факты и события, а также превратить их ещё и в знания. Оказывается, что качество, которое мы называем информационным, несёт в себе ещё и нечто другое. В настоящее время, информацию понимают именно таким образом, как множество фактов, событий и т.д. Раньше мы говорили о разрозненных знаниях, а теперь говорим о знаниях как об информации, подразумевая под этим только то, что они есть и являются сами некой информацией. Ранее мы говорили о неком множестве или же просто о количестве знаний, а сейчас уже говорим о количестве информации. Такое представления о знаниях, а месте с ним и о самом нашем познании привело к тому, что снова стала проявляться тенденция к их организации и упорядочению, но уже в лоне некой общей для них предметности, которой, по всей видимости, и может выступить система естествознания. Вот почему мы возвращаемся к естествознанию. Ведь, и во время его зарождения происходило нечто сходное со знаниями, имеющимися на то время в арсенале человеческого познания. Они породили не только понятие естественного, но ещё и само естествознание. Но эти периоды различаются тем, что, в одном случае, естественные знания развивались очень бурно и быстро, а, в другом случае, имеющем своё непосредственное отношение именно к настоящему периоду времени, имеют и несут в себе некую обратную тенденцию, которая связано с полной остановкой и деградацией естественных знаний, а отсюда и самого естествознания. Поэтому, с одной стороны, появление естествознания связано с развитием нашего познания природы и перехода его к познанию материи, а, с другой стороны, с его полным упадком и хаосом. Именно на этом “упадке” мы и хотим возродить естествознание, но уже как некую систему знаний о естественном и как систему естествознания.
Самым примечательным в момент зарождения естествознания являлось то, что в самом нашем познании начинают зарождаться и появляться новые методы анализа и синтеза, познанного нами. Это так называемые систематики и классификации. Эти способы и методы касались не самих наук, а только знаний, которые стали выделяться в некие группы, классы, множества, рода, виды и т.д. и т.п. Все это привело к тому, что науки стали терять, присущую им предметность и объективность, а потому и попросту стали смешиваться и перемешиваться друг с другом. На самом деле, происходила ещё и некая их сборка, но имеющая отношение уже к самим природным реальностям, что и привело к появлению систематик растений и животных – в биологии, металлов и соединений – в химии, планет – в физике и астрономии и т.д. и т.п. Они – то и зародили идею системности ещё и самих знаний. Эту идею в некой уже в некой тотальной всеобщности стало нести в себе ещё и естествознание. Но встроилась, а также с помощью какого метода осуществлялось их создание и построение. Хотя, в систематиках уже стало проявляться и появляться то, на чем или же на каком объекте познания она осуществлялась и строилась.
Основу систематики стали составлять родовидовые отличия одного познаваемого от другого, а также ещё и некой группы, класса, совокупности и т.д. и т.п. вплоть до составляющих её элементов. Но родовидовое отличие не является методом, а есть, скорее, некий способ, описания и познания той или иной систематики. Это есть всего лишь некий способ, с помощью которого можно было выявить некие сходства и различия того, что нами познаётся, но не того, как и на чем строится сама та или иная систематика. Способ позволяет только выявить и выделить в лоне естественного, те области, которые мы можем назвать просто различными или же сходными. Оказывается, что эти различия связывают с той или иной конкретной или же частной наукой. Так науки наделяются некими новыми предметными областями, хотя, часто, просто остаются в лоне своей предметности или же некой объектной определённости. Но это все – таки приводит ещё и к тому, что они начинают просто смешиваться, расширятся, образуя некие новые области знаний, которые начинают не только отражать, но ещё и выражать эту их смесь или совокупность. Так, например, возникает физическая химия и химическая физика, квантовая химия, биохимия, биогеохимия и т.д. и т.п. Так и таким же самым образом рождается и современная экология. Дальнейшее развитие этих областей знаний о естественном, привело к тому, что в химической науке был выявлен объект изучения, которым стал являться химический элемент. Используя этот объект Д. И. Менделеев создаёт и строит систематику химических элементов, называемую, в настоящее время, периодической таблицей химических элементов или просто таблицей Д. И. Менделеева, а порой и просто периодическим законом Д. И. Менделеева. В биологической науке, как оказалось, дела обстояли несколько иначе. Первые систематики К. Линнея касались только отдельных, конкретных видов живого. Вследствие чего сама биологическая наука переходит от создания и построения систематик к изучению уже составляющих её элементов, которыми стали являться: клетки, хромосомы, белки, гены и другие структурные элементы живого. Поиск некой самой общей систематики биологии привёл к тому, что возникла необходимость отыскания и самого простейшего элемента живого, который бы позволил создать похожую систематику, какую имела химическая наука. Все неудавшиеся попытки создания такой систематики в биологии привели к тому, что она стала вырабатывать уже свои собственные методы и способы познания живого и живой материи. Поэтому выявления отличий живого вещества от неживого и составило основную, решаемую ей проблему на многие десятки и даже сотни лет.
Выявления элементарного “живого”, которое могло бы стать объектом изучения биологической науки, до настоящего времени, так и не произошло. Оказалось, что живое не сводимо к некому универсальному простому, тем более, простейшему, которое имеют в своём лоне физическая и химическая науки. Биология как наука возникла из лона предметности, которая несла в себе ещё и новое качество самой материи – живое, выраженное ещё и в новом понятии называемого – жизнь. Понятием этого качества в лоне количества, и как некой меры стала выражать собой именно понятие жизнь. Но сама жизнь не была положена простым элементом живого, а потому биология так и остаётся по сей день без объекта своего изучения и познания. Это, конечно, не означает, что в биологической науке нет объектов изучения и познания. Они есть, но жизнь не является её объектом, хотя и существуют её объективные носители, называемые живыми организмами. Появление в лоне самой материи некой дифференциации приводит к тому, что материя начинает подразделяться на живую и неживую материю, что в свою очередь и приводит к появлению биологической и химической наук. Такое деление возникло и по отношению к самой биологии, и даже ещё и в самой биологической науке. Вне её рамок понятие живой и неживой материи вообще не существует, его и просто нет. Если использовать тотальное полагания вещества то, тогда можно говорить о физическом, химическом и биологическом веществе, но уже как о том, из чего состоит и вся существующая материя. Но говоря о живом и неживом веществе, мы, с необходимостью, придём к отождествлению уже самих физической и химической наук вследствие того, что они обе являются науками о неживой материи и веществе. Это приводит к тому, что естественные науки начинают чисто условно делиться на науки о живой и неживой природе, о живой и неживой материи, а также о живом и неживом веществе.
Что касается географии, то, о ней мы можем сказать только то, что её лоном изучения и познания является сама наша Земля. Поэтому географическая наука концентрирует в себе все знания о Земле, независимо от того являются они физическими, химическими, биологическими или же социальными знаниями. Объектом географии становится и является сама Земля, а её предметность, до настоящего времени, так и остаётся не выявленной, а потому и неопределённой. Вследствие этого она всегда готова принять в своё лоно все существующее на Земле, а потому и все знания о ней. Чтобы убедится в этом достаточно взглянуть на составляющие её элементы. В этом легко убедиться и самим, полистав книги по географии. В ней есть все, а потому, она и сама есть все. Движение географической науки в направлении систематики привело к появлению способа её познания, которыми стали является карты и картография, как способы описания и представления Земли, через знаки и символы, представляющие собой, существующие на ней объекты. Именно картография является основным способом систематики объектов географической науки. Но, имея свою систематику, география, как и другие естественные науки также не имеет своей системности, а потому не является системой знаний о естественном. Оказывается, что только упорядоченность знаний о естественном может привести к построению как самой системы естествознания, так и составляющий эту систему “элементов”. Но это возможно осуществить лишь в том случае, если системами являются сами естественные науки, или как мы их назвали выше “элементы” системы.
Весь небольшой, представленный нами анализ естественного, показал, что в рамках этого качества был выявлен ещё и некий новый подход в его изучении и познании. Этим подходом является систематика, как некий способ сборки изученных нами объектов. Но, как оказалось, систематика есть лишь преддверие к учению о системах. Само понятие системы появляется лишь в настоящее время, но и оно не приводит к существенным изменениям самого нашего познания, а потому и самого качества нашего познания. Это связано с тем, что понятие системы строится на основе чисто механических моделей, вследствие чего сама система в таком представлении является также чисто механической системой, не имеющей к тому же своей собственной динамики. А потому это есть некое статическое представление системы. Сама же природа нам показывает, что таких систем в ней просто нет, и не существует. В самом понятии системность скрыто понятие повторяемости, возвращения к исходному, а потому, ещё и некий путь движения к исходному, изначальному. Система требует этой повторяемости не как простого возврата назад, а как циклической повторяемости, которая несёт в себе некий генесис, как развитие в будущее. А потому само построение системы невозможно вне рамок этого выявленного нами динамического основания. Система может существовать только в развитии и изменении, а не в простой трансляции по пространству, под которым мы подразумеваем самые простейшие движения, которым является механическое движение. Понятие движения как некой трансляции в пространстве к ней вообще не применимо, т.к. система несёт в себе только предметность, а не объективность. Поэтому мы не можем описывать её чисто математически, наделяя её при этом ещё теми или иными математическими характеристиками или атрибутами. Система несёт в себе уже некую организованность и упорядоченность объектов познания, а ещё и некую сферу выделенных элементом, которые её и образуют. Но, кроме это ещё и сами знания об этих выделенных элементах. А раз это так, то, система есть некое организованное целое и рассматривать его как некое простое или сложное движение мы не можем и просто не имеем права. Более того, изучение и познание материи, а также её видов привело к тому, что нам удалось выявить структуру и строение материи, в силу чего мы не имеем права рассматривать движение этой структуры, или же её строение с точки зрения некой её системной целостности, т.к. в этом случае способы описания тел и системы из них образованной будут просто тождественными, а потому различить их мы уже просто не сможем. Именно это мы имеем при описании систем, подводя под её объяснение простейшее движение элементов её составляющих. Такое описание элементов, образующих систему ничем, не отличается от описания движения тел, которые в лоне системы являются уже просто её элементами. Вот почему современная системология, так и не смогла справиться с проблемой описания движения, как самой системы, так и составляющих её элементов. Ведь, их число больше двух, а у нас есть метод описания и познания только двух элементов. Именно здесь во всей своей неповторимости и, с необходимостью, снова всплывает и встаёт проблема описания трех тел. А потому нам пришлось решать и эту проблему. В силу того, что любое познаваемое имеет свою структуру и строение оно уже само является некой системой. Вследствие этого нам пришлось изменить само наше представление о системе. И, как оказалось, системой может является, а, точнее сказать, является любая природная реальность. Именно такое представление о системе позволило нам прийти не только к пониманию системного качества познаваемого, но ещё построить и динамику самих систем. По отношению естественному, а потому и к самому естествознанию мы развернём эту логику систем, а также, самого качества называемого системным, но не самого познаваемого, а уже самой природной реальности.