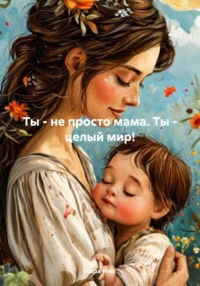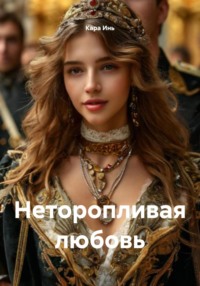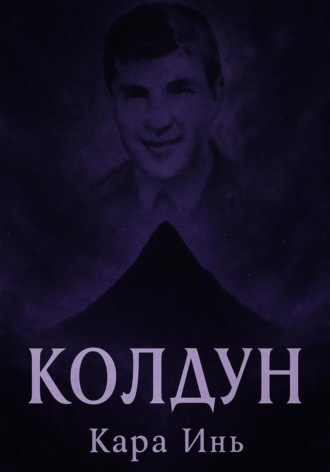
Полная версия
Колдун

Кара Инь
Колдун
Глава 1
Анастасия была красива – не броской, не яркой, а особенной красотой, которая не кричит, а будто шепчет. В её взгляде было тепло, а в улыбке – такая тишина, что рядом с ней хотелось замолчать и слушать, как бьётся сердце.
С детства у неё была особенность: одна нога – чуть короче другой. Её походка была неуверенной, с лёгким покачиванием, словно она вечно шла против ветра. Люди сначала смотрели с удивлением, а потом – с жалостью. Анастасия привыкла встречать эти взгляды. И всё же – жалость была тем, чего она боялась больше всего. Не боли. Не одиночества. Жалости.
– Я буду носить тебя на руках. Я не позволю тебе чувствовать себя иной.Гурген полюбил её ещё тогда, когда весь их мир был прост – улицы казались длиннее, а чувства – чище. Он был прямым, как стрела, с тёплыми руками и глазами цвета коньяка.
– Ты будешь меня жалеть, – сказала она, глядя в окно, будто пыталась разглядеть там другое будущее. – А я этого не вынесу.Но Анастасия не хотела быть ношей. Не хотела быть "долгом", "жертвой", "испытанием".
Они расстались без истерик и без прощаний. Просто пошли разными дорогами, каждый с пустотой внутри. Боль осталась, но была честной.
Потом была тишина. Долгая, наполненная шагами, которыми Анастасия измеряла свою новую жизнь. Она шла по разбитым тропинкам, тяжело, с усилием. Беременность делала каждый день похожим на подвиг. Нога болела сильнее, но она не позволяла себе упасть. Она держала спину прямо. Несли ноги – и вели сердце.
Она говорила с ребёнком внутри – шептала, будто передавала секреты жизни:
"Ты будешь сильной. Ты не сломишься. Ты научишься не просить – только брать. И если мир будет суров, ты ответишь ему добром. Но с силой."
Её дочь родилась под вечер 19 марта, когда над домом тянулись ленты облаков, а в окне горела одна лампа. Анастасия назвала её Людмилой – в честь любви и мира, которого так хотелось в этом хрупком мире.
Она растила её одна. Без жалоб. Без помощи. Отец? Он писал. Гурген писал. Годами. Аккуратным почерком, с осторожностью в словах и нежностью, которую теперь можно было только доверить бумаге. Он не исчез. Он ждал. Он звал. Но Анастасия не позволила – себе, ему, прошлому.
После её смерти, когда дом опустел, Людмила открыла старый ящик. Там лежали письма. Связанные лентой. Дыхание её сбилось, когда она развязывала узел. И каждое слово, написанное отцом, будто стучало прямо в её сердце.
И однажды она нашла его. Гургена.
Он сидел у окна, седой, с глазами, в которых ещё жила юность. Он поднял взгляд – и сразу узнал её.
– Людмила?.. – голос сорвался, будто был слишком слаб, чтобы вынести это имя.
– Я – твоя дочь, – сказала она. И в этот момент история их семьи сделала круг. Замкнулась. Чтобы начать что-то новое.
Гурген молчал, будто не верил, что перед ним стоит она – та, чьё лицо он представлял столько лет, глядя на старую фотографию Анастасии. Он встал, неуверенно подошёл и остановился в шаге.
– Ты так похожа на неё, – прошептал он. – Но в глазах – я.
Людмила не знала, что сказать. Ей хотелось одновременно спросить тысячу вопросов и просто помолчать рядом. Всё, что она знала о нём, было в тех письмах – иссиня-чёрных чернилах, ровных строках, сдержанных, но полных любви.
Они сели на лавочку под инжиром. Был вечер, тёплый, как бывает только в предгорьях Кавказа. Пахло дымом и травой. Легкий ветер приносил запахи из прошлого.
– Я ждал, – сказал он. – Думал, может, однажды… она прочтёт и простит. Или ты прочтёшь. И захочешь узнать.
– Она никогда не говорила плохо о тебе, – сказала Людмила. – Просто молчала. Наверное, это было её единственное средство защиты.
Гурген кивнул. Он держался прямо, но в глазах стояла боль, накопленная за годы.
– Я был молод, горяч, но не глуп, – продолжил он. – Когда она ушла, я понял, что не смогу разлюбить. И решил не забывать. Писал – не ради ответа, а ради неё.
– Почему ты не пришёл? – спросила Людмила, и голос её дрогнул. – Не попытался?
Он посмотрел на неё внимательно, будто взвешивал ответ.
– Потому что она не дала мне шанс. А я… не хотел вторгаться в её выбор. Я знал, насколько она горда. Насколько важна ей сила – внутренняя. Я уважал это.
Тишина между ними была не пустой. Она была наполнена памятью, которой они делили друг друга, даже не зная об этом.
– Ты ведь хотела узнать, кто твой отец, – тихо сказал Гурген. – Но, думаю, ты узнала главное: не в крови дело, а в сердце.
Людмила вздохнула, глядя на его руки – крепкие, загрубевшие, такие же, как у Тимофея. И вдруг подумала: сколько же в её жизни было настоящих мужчин – и как много силы дала ей мать, чтобы быть достойной и любви, и памяти.
– Я не держу зла, – сказала она. – Я просто хочу знать. Быть рядом. Хоть немного.
Он улыбнулся – впервые по-настоящему. И в этой улыбке был свет – не ушедшей любви, а новой жизни. Не боли, а принятия.
– Тогда оставайся, дочь. У меня ещё много рассказов. И времени… пока оно есть.
И Людмила осталась. Пусть ненадолго, пусть как гость, но в тот вечер два одиночества нашли друг друга.
И где-то далеко, там, за облаками, Анастасия, возможно, впервые за много лет улыбнулась – тихо, светло, как умела только она.
Людмила осталась у Гургена на несколько дней. Их разговоры растянулись на долгие вечера, за чашкой крепкого чая с мятой, под тиканье старых армянских часов, которые он не заводил уже много лет. Она слушала его истории о молодости, о том, как он мечтал построить дом для Анастасии, о своей жизни после – одинокой, но не сломленной.
– Я никогда не женился, – сказал он однажды, – не потому, что не было женщин. Просто в сердце уже было одно имя. И никакое другое туда не вмещалось.
Это признание пронзило Людмилу. Сколько же в этом молчании было любви? Не той, что требует, а той, что терпит. Сохраняет. Живёт, даже когда кажется, что всё потеряно.
Гурген показывал ей старые фотоальбомы – чёрно-белые снимки, где он с друзьями в горах, у реки, с гитарой. На одной фотографии он стоял у стены своего дома – молодой, с прямой спиной и светом в глазах. Людмила долго всматривалась в его лицо, словно пытаясь найти черты, знакомые по отражению в зеркале.
– Ты часто бываешь в горах? – спросила она, когда они вышли прогуляться по пыльной дороге, окружённой виноградниками.
– Раньше – да. Сейчас больше сижу дома. Ноги уже не те. Но если хочешь, завтра утром покажу тебе одно место. Там я однажды просил у неба прощения.
На следующий день они поднялись на небольшой холм. Внизу раскинулись поля, домики, крыши церквушек. Солнце мягко ложилось на землю, как благословение.
– Здесь, – сказал он, – я в первый раз произнёс имя твоей мамы вслух, когда понял, что не могу жить, будто ничего не было.
«Анастасия. Свет. Надежда. Жизнь. Прости, если сможешь. Но знай – я помню тебя. Всегда.»Он достал из кармана старую записную книжку. Пролистал несколько страниц, потом подал одну ей. На ней почерком, неровным, но крепким, было написано:
– Ты не потерял меня, – тихо сказала она. – Просто мы долго шли друг к другу.Людмила сложила листок и положила его на сердце. Её глаза были полны слёз, но слёзы эти несли в себе тепло.
Они сидели на том холме до самого заката, молча. В этот вечер им не нужны были слова. Между ними, наконец, появилась не просто связь по крови, а что-то большее – доверие, принятая правда и любовь, которой не страшны годы.
Так завершилась встреча, начавшаяся с тихого стука сердца в старом доме и письма, которое наконец нашло адресата. Но история только начиналась…
В тот вечер, когда солнце уже склонялось к горизонту и лёгкий бриз с моря трепал виноградные листья на старой террасе, Людмила сидела напротив Гургена с чашкой крепкого чая. Тишина была тёплой, как плед – не давящей, а почти родной. Но ей хотелось знать. Больше. Глубже. Не просто письма и сожаления – а то, как всё было на самом деле. Как началась история, в которой она – главная глава, но всегда чувствовала, что не знает первых строк.
– Папа… – осторожно начала она, не глядя в глаза. – Расскажи мне о ней. О маме. С самого начала.
Гурген помолчал. Он опустил взгляд на свои руки – широкие, мозолистые, с неровными пальцами. Потом поднял глаза и кивнул, будто давал самому себе разрешение наконец сказать то, что держал внутри всю жизнь.
С корзинкой, прихрамывая, но с такой прямой спиной, будто несла не яблоки, а свет. Белый платок, простое платье – ничего примечательного. Но глаза… её глаза были как колодец, в который падаешь без дна. Тихие, глубокие, не прощавшие лжи.– Это было весной. Я тогда работал помощником прораба на стройке у самого окраина города. Мы ставили деревянный корпус для школы. Было грязно, шумно, суетно – и вдруг… Она.
Он замолчал на мгновение, словно снова увидел ту картину перед собой.
– Она стояла у края дороги, ждала трамвай. И я подошёл. Просто сказал: «Здравствуйте». А она – ничего. Только кивнула и посмотрела… так, будто сразу поняла меня насквозь. Я понял – пропал.
Он усмехнулся, но в глазах блеснула грусть.
Я хотел жениться. Готов был работать на трёх стройках, лишь бы ей было легко.– Мы начали видеться почти каждый вечер. Она стеснялась своей ноги, а я… Я не замечал её. Честно. Мне казалось, она идёт по земле, но принадлежит небу. Я знал, она гордая. И всё, что у меня было – это честное сердце и руки, что хотели быть рядом.
– А она?
И ушла.– Она… Она боялась. Не бедности, не быта. Боялась, что стану жалеть её. А для неё жалость была как предательство. Однажды она сказала: «Я не хочу быть бременем. Мне не нужна доброта из жалости. Я должна стоять на своих ногах – пусть и неровно».
Гурген выдохнул. Медленно, горько.
– Я писал. Часто. Годами. Каждый день в её день рождения. На Новый год. На Пасху. Без надежды, но с верой. Потому что любил.
Людмила молчала. Она знала, что всё это – не просто слова. Это был его несказанный роман, прожитый в тени. Его безмолвная жизнь, в которой главная роль всегда принадлежала женщине, которую он отпустил, чтобы не сломать.
– Почему ты не пришёл сам?
Но каждый вечер, знаешь… – он посмотрел на неё с улыбкой. – Я выходил на улицу, смотрел на небо и думал: может, где-то она тоже сейчас смотрит вверх.– Потому что однажды она вернула письмо. С надписью: «Пожалуйста, больше не пиши. У меня теперь другая дорога». Я принял это.
Людмила тихо смахнула слезу. Не от горя – от света, от нежности, от понимания.
В ту ночь ей снилась мать. Не больная, не уставшая, не строгая. А юная, идущая по весенней дороге с корзинкой в руке. А рядом – молодой мужчина в серой рубашке, с глазами, в которых была вся её история.
С утра Гурген долго молчал. Он будто снова проживал ту весну, дыхание которой сохранилось где-то глубоко в его памяти – в запахе цветущих акаций, в звуке её шагов, лёгких и осторожных.
– Я помню её голос, – сказал он наконец. – Тихий. Очень ясный. Она не говорила много, но каждое слово было как гвоздь – точное, прямое. Когда она смеялась, мне казалось, будто кто-то открыл ставни в доме, где давно не было солнца.
Он встал, прошёл к старой полке, открыл ящик и достал потёртую коробку. Там, среди аккуратно перевязанных ниткой писем, лежала фотография – старая, выцветшая. Анастасия стояла у дерева, в руках держала книгу. Смотрела не в камеру, а в сторону, словно что-то увидела.
– Я сделал это фото, когда мы были в парке, – прошептал Гурген. – Она не любила фотографироваться. Считала, что её хромота сразу бросается в глаза. Но на этом снимке она забыла о себе. Я люблю его. Это – она настоящая.
Он передал фотографию Людмиле. Та подолгу смотрела на лицо матери – не с боли, а с трепетом, как на подарок из времени, где она ещё не родилась, но где уже начиналась её судьба.
– А ты знал обо мне? – спросила Людмила.
Гурген кивнул. – Догадывался. Когда она исчезла совсем, не отвечала больше… Я понял, что что-то изменилось. А потом, много позже, через общих знакомых, услышал, что у неё есть дочь. Но я не посмел… Я думал, если она решила уйти, значит, так надо. Я любил её даже в этом её выборе – быть сильной. Оставаться неприступной. Не просить. Не возвращаться.
– А теперь? – Людмила подняла глаза. – Что ты чувствуешь сейчас?
Он улыбнулся – старой, тёплой улыбкой, в которой не было сожаления, только благодарность.
– Теперь я чувствую, что жизнь всё же даёт шанс. Что любовь, даже если не прожита рядом, всё равно остаётся в человеке. Ты – её часть. А значит, и часть меня. И это – чудо.
Людмила молча встала, подошла и обняла его. Впервые. Медленно, крепко, как будто склеивала что-то внутри, что было сломано много лет.
В тот вечер, когда они пили чай при свете лампы и слушали, как за окном по крыше бежит дождь, Людмила поняла: у каждой любви есть своя тень. Иногда она живёт не в браке и не в совместных годах, а в письмах, которые не были прочитаны, и во взглядах, что не встретились.
Но если ты когда-нибудь найдёшь эту тень – не оттолкни её. Ведь она может оказаться самым тёплым светом.
Гурген долго молчал. Его руки, натруженные, жили своей памятью – будто в пальцах ещё хранились прикосновения к тем временам, когда всё только начиналось. Он смотрел в окно, где медленно таяло небо , и только потом заговорил – негромко, словно боялся спугнуть тени прошлого.
– Знаешь, Людочка… Анастасия была – как утро в горах. Неприступная, светлая, полная силы и тишины. Она никогда не просила жалости, наоборот – отталкивала её с упрямством дикого зверя. Даже в любви она была гордой. Нет… не холодной – просто гордой по-женски. Тонко чувствующей. Она сразу видела, кто говорит искренне, а кто – из жалости, из страха быть одиноким или из порыва, который сгорит, не разгоревшись.
Он вздохнул, будто вспоминая тот давний день, когда всё изменилось.
– Я пришёл к ней тогда с кольцом. Мы были совсем молодыми. Я говорил: "Выходи за мне, Настя. Я буду рядом. Всегда."А она… она смотрела в окно. Ни слёз, ни улыбки. Только тишина. И потом сказала: "Ты не знаешь, что значит жить со мной. Одна моя нога короче другой, но ты ведь сейчас этого не чувствуешь. А потом – будешь жалеть. Начнёшь думать, что мог бы выбрать кого-то попроще, посильнее, пополноценнее. Я этого не выдержу, Гурген. Жалость – убивает."
Людмила слушала, не дыша. Эти слова были похожи на голос матери – ясные, как свет.
– Я пытался переубедить её, говорил, что это не важно… Но для неё это было важно. Не нога, понимаешь, а гордость. Независимость. Она не хотела быть женщиной, за которую нужно платить болью и компромиссами. Хотела быть равной, сильной. А я… Я, видимо, не убедил. Или просто пришёл слишком рано. Может, если бы вернулся позже, когда стал бы старше, мудрее, всё было бы иначе.
Он провёл рукой по столу, будто гладил что-то невидимое.
– Я ушёл, не ругаясь. Просто понял: не могу сломать её волю. А потом узнал, что она родила… и замолчал. Потому что подумал: если не пришла – значит, не хочет. А потом уже было поздно. Только письма… Письма были мостом, которого она, возможно, боялась перейти.
Людмила накрыла его ладонь своей.
– Она не переставала тебя любить. Просто любовь для неё – это было не "вместе", а "не мешай быть собой". Но я рада, что вы нашли друг друга – пусть и не тогда, а сейчас.
Гурген кивнул. И в этом кивке было всё: боль, прощение и та самая крепкая, молчаливая любовь, которая не умирает – даже если прячется на всю жизнь в ящике с письмами.
Гурген улыбнулся – впервые за весь вечер так мягко и светло, что морщины у глаз вдруг стали похожи на лучи солнца.
– Наши свидания… Ах, Людочка, как будто это было вчера. Не было у нас ресторанов, подарков, всего этого – показного. Мы были бедными, но счастливыми. Встречались в парке, у старой беседки. Там росла сирень – много, пышно, душисто. Весной весь воздух звенел от её запаха, от птиц и от её смеха…
Он замолчал на мгновение, будто пробуя на вкус то далёкое воспоминание.
– Анастасия никогда не носила ярких платьев. Её наряды были простыми – серые, синие, неброские. Но я клянусь тебе, дочь, когда она шла навстречу мне по аллее, всё вокруг как будто замирало. Даже деревья смотрели ей вслед. Ветер играл её волосами – и мне казалось, я вижу перед собой ангела. Только не небесного, а земного. Настоящего. Она приходила, не спеша, с чуть заметной хромотой, но с таким достоинством, что даже старушки у скамеек смотрели на неё с уважением.
– Мы гуляли долго. Могли просто сидеть молча. Или обсуждать книги. Она любила читать – особенно Тургенева. Я тогда не очень понимал, о чём все эти его «отцы и дети», но слушать её – было как пить из чистого источника. Она говорила красиво, глубоко… иногда вдруг замолкала, и тогда я чувствовал: внутри неё целый мир, такой большой, что я сам рядом с ней становился другим.
Он опустил глаза, продолжая уже тише:
– Один раз я принёс ей яблоки – самые красивые, спелые, с нашего сада. Она взяла только одно. Остальные – отдала соседской девочке. "Мне хватит,"– сказала. – "Слишком много – обязывает."Понимаешь, Люда, она всегда отмеряла чувства, как будто боялась дать лишнего. Или получить. У неё был страх: зависеть. Даже от любви.
Он снова посмотрел на Людмилу – уже не с болью, а с благодарностью.
– Но каждый наш вечер был сокровищем. Её рука в моей – тонкая, холодная… и родная. Мы сидели на берегу, слушали волны. Она говорила, что море – как её жизнь: иногда бурлит, но чаще молчит. Я обнимал её, а она иногда позволяла положить голову мне на плечо. И тогда я думал: вот она – вечность.
Тишина в комнате стала особенно глубокой, как бывает только после чего-то настоящего.
– Наши свидания были не про поцелуи. Не про страсть. Про душу. Про тишину между двумя людьми, где не нужно говорить, чтобы понимать.
Людмила молчала, а на сердце у неё медленно расцветал сиреневый свет – тот, о котором когда-то мечтала её мама.
Гурген вдруг улыбнулся шире, глаза его блеснули озорством, и он, слегка понизив голос, будто рассказывая тайну, продолжил:
– А весёлых случаев у нас с Анастасией, знаешь ли, тоже хватало. Она, хоть и выглядела всегда серьёзной, внутри была – огонь. Однажды, представь себе, мы пошли на сельскую ярмарку. Я решил показать удаль – был там конкурс: кто быстрее залезет на гладкий деревянный столб за призом. А приз – мешок с яблоками и вареньем! Ну, я, конечно, полез. Толпа смеётся, подбадривает, девчонки визжат. А я скользю и срываюсь – и прямо в чан с водой для арбузов! Холодина! Все вокруг хохочут.
– Анастасия стоит – смотрит, как будто ничего не случилось. А потом подходит, кидает мне полотенце и говорит: "Главное – не яблоки, главное – что ты не побоялся."А потом шепчет: "Но ты всё же смешно падал…"– и смеётся, как колокольчик! И смех у неё был такой… как будто лето рассыпалось по ветру.
Людмила тоже рассмеялась, представив мокрого, гордого Гургена и сдержанную Анастасию, тихо смеющуюся в ладошку.
– Или вот ещё, – оживился он. – Однажды она решила устроить сюрприз: испечь пирог с абрикосами. Никогда до этого не пекла. Я захожу, а из кухни дым валит! Она стоит – в муке по локоть, вся красная от жара, и говорит: "Гурген, у нас будет ужин… в стиле дымка!"– и вдруг как рассмеётся сама, так, что у неё глаза заплакали. Пирог был страшненький, но вкусный, потому что – с любовью.
Он рассмеялся сам, с какой-то нежной горечью.
– Её юмор был тихий, тонкий. Она могла в одной фразе и поддеть, и приободрить. Когда я говорил, что хочу быть богатым, она отвечала: "Смотри только, чтоб сердце не обеднело."А если я злился, она подливала масла в огонь – молча ставила передо мной чашку с мёдом. С намёком, что лучше быть сладким.
– Мы были как дети. Хромая, упрямая она – и я, упрямый и шумный. Но вместе – целый спектакль. Смеялись, бывало, до икоты. И ты, Людочка, должна знать: твоя мама умела смеяться. Она умела радоваться мелочам. Даже если потом уходила в себя – свет от этого смеха ещё долго жил рядом с ней.
Он замолчал, глядя куда-то в окно, а Людмила с теплом подумала: да, теперь она знала, как сильно смеялась её мама. И этот смех – жив. Потому что о нём помнят.
Гурген медленно потёр ладони, будто перебирая в них прошлое, и, чуть улыбнувшись, начал вспоминать:
– Знаешь, Людмила, я долго решался. Семья у меня… традиционная, громкая, с характером. Мать – строгая, упрямая, женщина старой закалки. Отец – сдержанный, но зоркий. И я знал: Анастасия – не такая, как другие. Не потому что нога у неё – нет. А потому что в ней была какая-то тишина, внутренняя, глубокая. Она не играла, не пыталась понравиться – она просто была. И я боялся, что родные её не поймут. Или, что хуже, – начнут жалеть. А она жалости не переносила.
Он замолчал на секунду, затем продолжил:
«Здравствуйте. Я принесла для вас варенье – из алычи. Сама варила».– Пригласил её как-то к нам на ужин. Заранее предупредил: «Будут много смотреть, много спрашивать. Но ты будь собой. Я – с тобой». Она только кивнула. Пришла – скромная, в светлом платочке, волосы убраны, взгляд прямой. Моя мама встретила нас в дверях – молчаливая, оценивающая. Анастасия чуть склонила голову и спокойно сказала:
–Добрый день!
С тех пор всё пошло мягче. Мама увидела в ней не слабость, а достоинство. Не беду – а стойкость.– Ты не поверишь, но этот простой жест растопил лёд. Моя мать, женщина неласковая, взяла банку, посмотрела на Настю и вдруг сказала: «Садись. Будем чай пить. Расскажешь, как варила».
Он усмехнулся:
И, как оказалось, был прав.– А отец? Отец в тот вечер сказал только одну фразу, когда мы провожали её: «Если не отпустишь – молодец. Если отпустишь – дурак».
Гурген опустил взгляд, чуть помолчал, затем добавил тихо:
– Я не отпустил бы. Никогда. Но она ушла сама. Не потому что не любила. А потому что не могла жить, чувствуя, что кто-то рядом видит в ней не женщину – а подвиг. А она хотела быть просто любимой. Без «жертв». Без боли.
Людмила слушала, затаив дыхание. И в этой истории – про варенье, взгляды, молчание – почувствовала свою маму. Стойкую. Тонкую. Настоящую.
Гурген вздохнул и глаза его на мгновение потемнели, словно он снова оказался в тех давних днях, когда всё только начиналось:
– Знаешь, как у всех – у нас тоже были первые ссоры. Не потому что мы хотели ссориться, а просто – притирались друг к другу. Анастасия была привыкшая держать всё в себе, она не любила громких слов и скандалов. Я же – наоборот, вспыльчивый, прямолинейный. Иногда мог накричать, не подумав.
Он улыбнулся, вспоминая:
– Однажды, помню, пришёл с работы усталый, а дома она ждала меня с видом, будто я опоздал на целый день. Я спросил: «Что случилось?» – она молчит. Я начинаю дёргать за руки, пытаться понять, а она вдруг выдала: «Ты меня не слышишь!» – и ушла в другую комнату.
– Я тогда сидел и думал: как так? Я же весь день только о ней и думаю, а она чувствует, что я её не слышу. Понял, что нам нужно учиться слушать друг друга, не просто слышать слова, а понимать сердце.
Гурген рассмеялся:
– Ещё была смешная история – мы поругались из-за соли. Представляешь? Она солила суп чуть больше, чем я привык. Я сделал вид, что это катастрофа. А она ответила: «Если соль убьёт любовь – значит, она была солёной». Тогда я не мог не рассмеяться и признать – Анастасия права.
– Такие мелочи. Но именно они нас и учили быть вместе. Учились терпению, умению уступать, иногда просто молчать, чтобы не навредить.
Он посмотрел на Людмилу с теплом:
– И это – самая настоящая любовь. Не когда всё идеально, а когда, несмотря ни на что, вы находите силы идти рядом. Даже если пути иногда расходятся на миг, сердце всегда возвращается домой.
Гурген на мгновение задумался, глаза его потеплели от воспоминаний.
– Жизнь с Анастасией была проста и вместе с тем необычайно глубока, – начал он. – Они ведь не были из тех пар, что нуждаются в пышных словах или роскоши. Наш быт – это была ежедневная забота друг о друге, в которой скрывалась вся сила нашей любви.
Он улыбнулся и продолжил:
– Помню, как по утрам она рано вставала, разжигала печь, чтобы было тепло. А я собирался на работу, и мы всегда находили минуту, чтобы обменяться взглядами и словами: «Будь осторожен», «Вернись скорее». Это казалось мелочью, но именно в этих мелочах жил наш мир.
– Вечера мы проводили просто – у плиты, где Анастасия готовила что-то простое, но вкусное. Чаще всего это были блюда, которые согревали не только тело, но и душу: каши, супы, пироги. Она умела творить чудеса из скромных продуктов.
– Наш дом не отличался удобствами, но там царила гармония. Мы вместе убирали, вместе чинили, вместе решали проблемы. Даже когда что-то ломалось – не было ссор, был совместный труд и взаимопомощь.
Он помолчал, словно пытаясь уловить запах тех давних дней, и добавил: