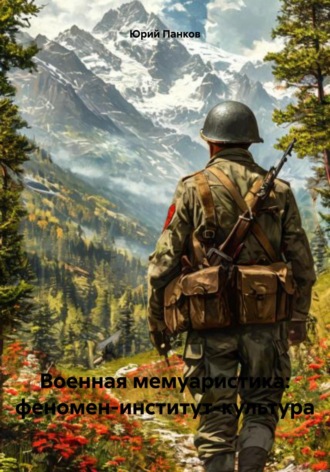
Полная версия
Военная мемуаристика: феномен-институт-культура
Вместе с тем она выступила с критикой коллектива авторов учебника 1998 г. «Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории». В нем была предложена невидовая трактовка особенностей мемуаров на принципах происхождения автора и социальной функции мемуаров. Акцент был сделан на отнесении мемуаров к широкой группе исторических источников личного происхождения с функцией установления межличностной коммуникации и авторской коммуникации. Весь комплекс источников личного происхождения был разделен на две группы: 1) автокоммуникативные источники (дневники) и материалы межличностной коммуникации, 2) источники с фиксированным и неопределенным адресатом. [Подробнее см.: 1, С. 135–136].
Таким образом, процесс источниковедческого изучения мемуаристики продолжался чуть более века, сопровождался спадами и подъемами интереса к мемуарам, результировался значительным накоплением теоретико–методологического, методического и информационного материала. Научные дискуссии сформировали два направления источниковедческого подхода к мемуарам: 1) конкретно–исторический (дополнительная фактографическая информация для осторожного использования), 2) историко–типологический (ретроспективная и сопутствующая информация). Оба подхода вошли в историю источниковедения следующими периодами: первый – 1917 – 1970-е гг.; второй – 1970-е – 1980-е гг. и до настоящего времени. [Подробнее см.: 1, С. 136].
На наш взгляд, сегодня начинает проявляться некий субъектно–коммуникативный подход к мемуарам в дополнение предыдущим. И обусловлено это институализацией мемуаристики и дроблением её функционала.
Военная мемуаристика как пространство коммуникации. Военные мемуары – основа полисубъектной коммуникации (с читателями и населением, госорганами, издательствами и т.д.). В современных условиях уже не достаточно рассматривать ВМ как социальный институт, как некую систему, возникает необходимость исследовать её как особое коммуникационное пространство, особое коммуникативное поле, выраженное различными компонентами околомемуарной деятельности.
В связи с этим можно рассматривать ВМ как процесс передачи и осмысления военно-мемуарной информации, происходящий между ВМ и обществом. Основой такого рода коммуникации являются собственно воспоминания в их объективной реализации (книги, журнальные материалы, аудио- и видеозаписи, киноматериалы и т.д.) и субъективном представлении (авторство, встречи авторов с читателями и т.п.).
Грамотно выстроенную, многоплановую и результативную коммуникацию ВМ можно рассматривать как показательный фактор успешной деятельности института ВМ в целом. Модель и ресурс такой коммуникации представляется нам как результат взаимодействия с научными направлениями, институтами производства и распространения военных мемуаров.
В коммуникативном пространстве ВМ моделируется некий культурный дискурс, который предоставляется обществу с помощью различных информационных технологий. Развитие форм и способов коммуникации ВМ со своей аудиторией и обществом становится основой для возникновения потребности у участвующих субъектов искать самоопределение и позиционирование в реальной социальной среде и в виртуальном пространстве.
Коммуникация ВМ реализуется на внутреннем и внешнем уровнях, которые отражают особенности каждого направления военно-мемуарной деятельности. Внутренний уровень ограничен контурами процесса создания воспоминаний, внешний – процесса распространения военно–мемуарной «продукции», который обеспечивает интеграцию информационного потенциала ВМ в территориальную социокультурную среду.
В связи с этим и коммукационное пространство ВМ можно рассматривать как внутреннее и внешнее. Причем последнее не имеет строгих территориальных ограничений и может потенциально бесконечно расширяться с выходом на мировое сообщество. Именно во внешнем пространстве коммуникации ВМ происходит трансформация транслируемого культурного дискурса в узнаваемый бренд, который демонстрируют на «культурном рынке» как ценный товар и совокупность услуг.
Во внешнем коммуникативном пространстве ВМ позиционирует себя как культурный, социальный и образовательно-воспитательный институт. Здесь же возникают коммуникационные отношения структурного характера.
Так, административно–иерархические отношения при вертикальной коммуникации у ВМ возникают с государственными органами, принимающими решения о публикации или сокрытии воспоминаний и дневников. Партнерский характер приобретают отношения ВМ с научными, социальными, образовательными институтами при горизонтальной коммуникации. Смешанный тип коммуникации свойственен вполне рыночным отношениям ВМ с производителями и распространителями её конкретных объектов (книг, журнальных публикаций и т.п.). Отношения некоммерческого информативного характера ВМ выстраивает с площадками самопрезенации, социальными интернет сетями и при иных связях с общественностью (PR–деятельность).
В контексте коммуникационного пространства в отношении ВМ следует ввести термин «экспозиционная музеизация» процесса предложения, распространения, рекламирования военных мемуаров: библиотечные стенды, книжные выставки, подборки… пока без привлечения современных технических средств помимо радио, телевидения и читательских сайтов. ВМ еще не достигла глубинной включенности в мультимедиатехнологии, с их голограммами, проекторами, ЖК-панелями, роботами и искусственным интеллектом… Однако именно «экспозиционная музеизация» переводит ВМ из внешнего во внутреннее коммуникационное пространство в рамках библиотеки, отражая диалог посетителя книжной выставки или наблюдателя военно-мемуарного библиотечного стенда, как с общей культурной памятью, так и с отдельными её компонентами.
Потребность ВМ в активизации эмоционального–чувственного дискурса коммуникации определяется доминированием в современной культуре фактора визуальности, когда важное значение приобретает процесс смотрения как таковой. Для усиления визуальных коммуникативных возможностей военно-мемуарной экспозиции (библиотечной, выставочной) пока ещё редко применяют специфические техники показа материала, чтобы не заменить сам мемуарный предмет. Экспонирование объектов ВМ по своей специфике не менее связано с понятием коммуникативности, нежели художественности. Данная особенность, в свою очередь, невольно препятствует преобразованию пространства смыслов, каким выступает ВМ, в «уголок впечатлений». К счастью ВМ не обладает амбициями занять место в ряду визуальных медиа. Однако она довольно часто, если не сказать постоянно, входит в противоречия с постановками художественных фильмов по мотивам военных мемуаров.
Вместе с тем современная информационная среда ВМ (внешняя и внутренняя) вынуждена подчиняться действию законов уже не художественной, а визуальной культуры. Традиционные методы организации коммуникационного пространства ВМ направлены на то, чтобы сами предметы ВМ раскрывали свою ценность читателю и зрителю. Мультимедийные технологии, оригинальные экспозиционные решения в ВМ объясняются стремлением к более интенсивному контакту с искушённой аудиторией, которую трудно удивить книжными витринами. На наш взгляд, тотальная «медиатизация» коммуникационного пространства ВМ не может являться выигрышным вариантом экспозиционного решения, которое будет позитивно восприниматься большинством посетителей культурных учреждений.
Традиции музейных и библиотечных выставок свидетельствовали об укоренившемся походе к их классической организации, что не умаляло их влияния на развитие военной мемуаристики как социокультурного института. Так, например, в октябре 2018 г. Научная библиотека Югорского государственного университета предложила студентам и сотрудникам выставку «Великие битвы Великой войны» [2]. Она была приурочена к памятной исторической дате. Её экспозиция наглядно демонстрировала место военных мемуаров в общем потоке исторической литературы соответствующей направленности.
Литература
1. Георгиева Н.Г. Мемуары как феномен культуры и как исторический источник // Вестник РУДН. Серия История России. 2012. № 1. С. 126–138.
2. https://www.ugrasu.ru/news/developments/Priglashaem_studentov_i_sotrudnikov_na_vystavku_Velikie_bitvy_Velikoy_voyny/
3. Мемуаристика: институциональный подход
Термин «мемуаристика» был образован с помощью суффикса «-истика», который используется в качестве словообразовательной единицы в именах существительных со значением совокупности явлений, в нашем случае «мемуаров» [1].
Современная наука не может ограничивать понятие «мемуаристика» простой совокупностью мемуаров. Прежде всего, потому, что последняя прошла через процесс институциализации, в результате которого мемуаристика превратилась в социокультурный институт.
Становление и развитие института мемуаристики можно рассмотреть на примере военной мемуаристики. На наш взгляд, современная военная мемуаристика – не только не совокупность военных мемуаров, в ней понятие «мемуары» уже существенно отличается от понятия «воспоминания».
Термин «социокультурный институт» (от лат. institutum – установление, устройство, обычай)
в качестве социокультурного установления может быть рассмотрен в военной мемуаристике как комплекс самых общих социокультурных норм, правил и принципов, образцов, привычек, типов мышления и моделей поведения, определяющих сущность и устойчивость социальных и культурных явлений, обусловливающих и регулирующих социокультурные отношения, деятельность человека в данной области её приложения.
В качестве социального образования (учреждения) институт военной мемуаристики может быть рассмотрен как социальная единица надиндивидуального уровня, как организация, то есть субъект социальных отношений и действий.
В связи с этим мы должны обратиться к генезису категории «социальный институт» [2]. (См.: В. М. Быченков. Социальный институт // Новая философская энциклопедия). Философия, социология и другие общественные дисциплины почерпнули понятие института из юридической науки, то есть адаптировали к своей области понятие, которое изначально обозначало совокупность правовых норм, регламентирующих определенные общественные отношения (наследование, брак, договор и т. д.). Институционализм в государственном праве рассматривал институт: 1) как идею дела или предприятия, осуществляемую посредством придаваемых ей органов и длящуюся юридически в социальной среде (М. Ориу); 2) как продолжительно существующее единство идей и людей (Ж. Ренар); 3) как предприятие, состоящее на службе идеи (Ж. Бюрдо); 4) как юридический порядок (С. Романе).
В социологии «институт» приобрел более широкое толкование, соотносящее его не только со сферой права, но и с другими областями социальной жизни. Э. Дюркгейм привлек термин «институт» для обозначения социальных фактов – коллективных представлений, внешних для индивида и обладающих принудительной силой по отношению к нему. По его мнению, институтами можно назвать все верования, все способы поведения, установленные группой; а социологию вообще можно определить как науку об институтах, их генезисе и функционировании.
Институционализм в социологии и экономической науке рассматривал институты как коллективные, социально-психологические образования: 1) распространенный образ мыслей о том, что касается отдельных взаимоотношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций (Т. Веблен); 2) словесный символ для обозначения группы общественных обычаев, постоянный или преобладающий образ мыслей или действия, который стал привычным для группы или превратился в обычай для народа (У. Гамильтон). Структурный функционализм понимал институты как комплексы более или менее устойчивых взаимозависимых социальных ролей (Г. Пирсоне). В теории обмена институты – это 1) относительно стабильные общие нормы, регулирующие отношения косвенного и сложного обмена между социальными единицами (П. Блау); 2) формализованные посредством норм процессы обмена, относительно устойчивые модели социального поведения, поддерживаемые действиями многих людей (Дж. Хоманс).
Институты как социальные установления служат посредниками в отношениях социальных субъектов, рационально упорядочивают и формализуют их, выполняя в обществе роль средств, обеспечивающих относительно устойчивое и предсказуемое протекание процессов взаимодействия и коммуникации между различными социальными единицами (индивидами, коллективами, организациями). (К определенному типу таких социальных единиц – социальным образованиям – также приложимо понятие «социальный институт»).
M. Вебер представлял институт как форму общественного объединения. В последнем поведение индивидов не только «обобществлено», т. е. рационально упорядочено в своих целях и средствах принятыми установлениями, но и базируется на принципе участия индивида в социальных действиях вследствие объективных данных (своего происхождения, родства, пребывания или деятельности в определенной сфере). Согласно К. Попперу, понятие «институт» охватывает социальные дела, как частного, так и государственного характера.
Социальный институт как образование сверхколлективного порядка, как фиктивное лицо, несводимое к его персоналу, объединению людей, и надстраивающееся над ним, оказывается, по существу, не более чем отвлеченным понятием, которому воображение и закон придают качества, права и обязанности, свойственные лицу в правовом и социальном значении этой категории. В отличие от институтов-установлений, «институтов-вещей» (если воспользоваться выражениями Дюркгейма и Ориу), опосредствующих отношения между людьми и другими социальными единицами как субъектами, институты-образования, «институты-лица», сами становятся субъектами социальных отношений и действий. Люди же лишь представляют и персонифицируют социальный институт, от имени которого они действуют, выступают посредниками в отношениях между институтами. Субъектность индивида в этом случае вторична, производна от первичной субъектности института.
С методологической точки зрения в рассмотрении социального института выделяются объективистская и поведенческо-психологическая ориентации. Первая из них четко сформулирована Дюркгеймом: институты, как способы мышления, деятельности и чувствования существуют вне индивидуальных сознаний и наделены принудительной силой, вследствие которой навязываются индивиду независимо от его желания; социальные факты, следовательно, нужно рассматривать как вещи. Согласно второй ориентации, идущей от М. Вебера, институты признаются комплексами действий индивидов; в своих крайних проявлениях редукция институтов к формам индивидуального поведения приводит к убеждению, что социальные явления могут быть объяснены исходя из одних лишь психологических предпосылок [2]. (См.: В. М. Быченков. Социальный институт // Новая философская энциклопедия).
В ряду общественных наук институционализм занимает достойное место в качестве общепринятого метода исследований.
Военная мемуаристика как социальная организация развивается не только под влиянием историографических факторов, но социальных, в том числе социальных институтов, формирующих социальную среду её функционирования.
Однако оценка этих факторов со стороны классических военных историков, литературоведов, авторов и читателей существенно отличается от мнения институционалистов. Первые позиционируют первичность историографических факторов и вторичность (в разрезе причинно-следственных отношений) институциональных. Вторые признают равную статусность обеих групп факторов, попутно возвышая институциональную теорию в иерархии социальных наук.
Разрешение этого противоречия лежит в области изучения общего и особенного в методологии классического и институционального познания.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



