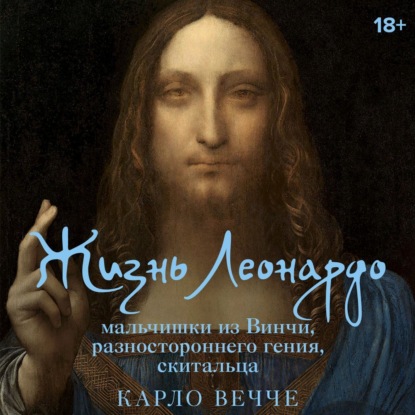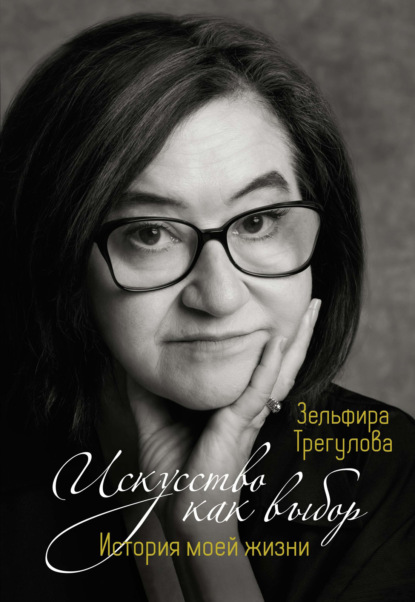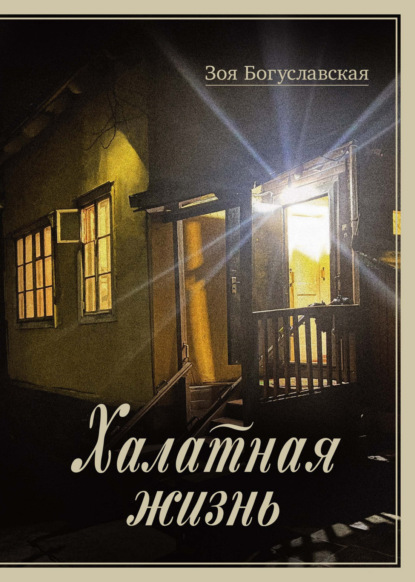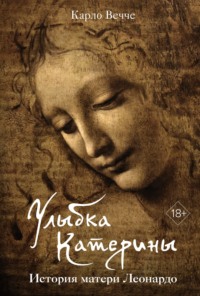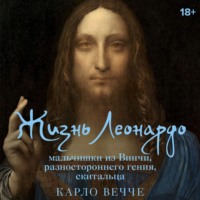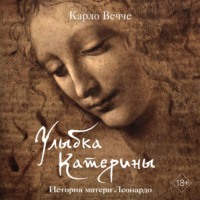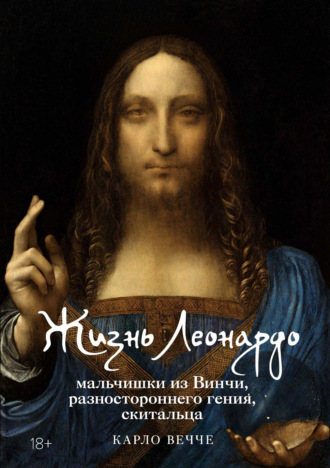
Полная версия
Жизнь Леонардо, мальчишки из Винчи, разностороннего гения, скитальца
В 1480 году прилегающий к монастырю сад, выкупленный и подаренный жене Лоренцо, Клариче Орсини, использовался в первую очередь как музей под открытым небом или, попросту говоря, склад античных мраморов и скульптур, барельефов, саркофагов, фонтанов и чаш, за которыми профессиональным взглядом надзирал ученик Донателло, скульптор Бертольдо ди Джованни, которого Вазари называет «хранителем этих древностей и руководителем… молодых людей, изучавших наши искусства и достигавших высшего превосходства». Это своего рода постоянно действующая лаборатория для молодых художников, тяготеющих к кругу Медичи, где они могут беспрепятственно изучать антики, делая зарисовки пластических моделей и упражняясь с освещением, а то и пробуя силы в непростом искусстве реставрации, понимаемом как воссоздание недостающих частей увечных скульптур.
Именно этот сад имеет в виду Леонардо, когда записывает на листе с геометрическими построениями, датированном 1508 годом: «Подвиги Геркулеса – Пьер Ф[ранческо] Джинори / Сад Медичи»[167]. Возвращение к изучению скульптуры, особенно античной, сразу приводит его к лучшему пониманию взаимоотношений фигур в пространстве, что несложно заметить в произведении, начатом вслед за «Поклонением волхвов» и тоже оставшемся незаконченным: «Святом Иерониме»[168].
«Святой Иероним» схож с «Поклонением волхвов» даже в плане техники: разве что меловой грунт здесь нанесен на ореховую доску, для Флоренции дерево несколько необычное. Основная разница в том, что на сей раз Леонардо частично перенес фигуру святого с картона: во всяком случае, голову, настоящий вызов перспективе и ракурсу, вероятно позаимствованному у скульптуры Верроккьо. Он также сделал небольшой рисунок этой головы углем – единственное сохранившееся свидетельство подготовительной работы[169].
Покончив с картоном, Леонардо проходится кистью по следам угольной пыли и закрепляет композицию полупрозрачной грунтовкой белилами. Потом начинает затушевывать задний план едва заметной дымкой с добавлением синего пигмента на основе лазурита. Темперу он использует желтковую, жирную, зачастую нанося краску пальцами или ладонью и оставляя уже привычные нам отпечатки.
СВЯТОЙ ИЕРОНИМВ этом выдающемся анатомическом исследовании святого Иеронима, коленопреклоненного среди скал и бескрайней пустыни, особенно интересен поиск движения, поворота торса, подчеркнутого обращенным к небесам взглядом. Святой изображен не в келье, в окружении книг, а в безлюдной пустыне, в момент сурового покаяния. Его связь с голым, сухим пейзажем – еще и внутренняя, духовная. Этот пейзаж олицетворяет боль, страдания, умерщвление плоти, когда в отчаянном крике корчатся сами мышцы и нервы.
Измученной фигуре святого противопоставлен профиль мирно лежащего у его ног льва, чьи изгибы напоминают ползущую змею. Он – практически призрак, поскольку здесь Леонардо остановился на уровне подмалевка, почти чистого рисунка. И неудивительно, ведь присутствия льва, которого святой, по преданию, излечил, вытащив из лапы докучливый шип, требует иконографическая традиция. Однако для Леонардо лев – нечто большее. Что-то вроде подписи. Лев, со всей его смелостью и силой, проявляется в имени художника; но есть в нем и огонь, мука, пылкость… Этот лев, глядящий на святого, – он, Леонардо.
Наконец, удивительная, совершенно чуждая сюжету деталь. В просвете между скал, посреди пустыни, вдруг возникает абрис церкви, простого строения с фасадом, декорированным двойным ордером и волютами – это очевидная отсылка к Санта-Мария-Новелла, фасад которой был достроен всего несколько лет назад по гениальному проекту Леона Баттисты Альберти. Или, может, замыслу новой церкви Сан-Джусто в монастыре иезуатов?
Ни время написания, ни заказчик «Святого Иеронима» нам не известны. Однако с большой долей вероятности картина, написанная с использованием тех же материалов и пигментов, что и «Поклонение волхвов», рождалась вместе с ней. Особенно если учесть, что святой Иероним является покровителем монахов-иезуатов, братства мирян, основанного блаженным Джованни Коломбини.
С 1439 года флорентийские иезуаты обосновались в монастыре Сан-Джусто-алле-Мура у ворот Порта-аи-Пинти, перестроенном в середине XV века; здесь работали Гирландайо и миниатюрист Герардо ди Джованни дель Фора. Монахи, тесно связанные с миром искусства, работали в витражной мастерской, оснащенной печами для выплавки цветного стекла, а также специализировались на поставках драгоценных пигментов, тех самых, что использованы для «Поклонения волхвов»: синего, известного как ультрамарин, то есть «заморский», поскольку его получали путем перетирания привезенной с Востока ляпис-лазури, и желтого, произведенного в Неаполе на основе аммиака и сурьмы. Так что «Святой Иероним» мог рассматриваться и как своего рода оплата натурой, компенсация иезуатам за поставленные материалы и пигменты.
Леонардо упомянет флорентийский монастырь иезуатов в более поздней заметке о прочитанной книге, копии «Писем» Фаларида[170] («инджезуати / послания Фалларидовы»)[171]. В списке рисунков и материалов, привезенных в 1482 году в Милан, он также отметит «рисунки печей» – возможно, тех самых, в которых монахи выплавляли стекло[172], и следом «черновики Иеронима», то есть подготовительные наброски незавершенной картины[173].
Поверенным монастыря в начале XVI века значится нотариус сер Андреа, сын Банко ди Пьеро Банки; сам Банко, напомним, был известным абацистом и клиентом сера Пьеро да Винчи. А тесть братьев сера Пьеро и Франческо да Винчи, торговец Джованни ди Заноби Амадори, настолько благоговел перед основателем ордена иезуатов, что в 1452 году собственноручно переписал житие Коломбини, сочиненное Фео Белькари[174].
23
Пещера
Флоренция, 1481–1482 годы
В начале 1480-х годов Леонардо переживает глубочайший кризис. Художник понимает, что может видеть то, чего не видят другие, и изображать увиденное так, как не умеет никто. Но в то же время он чувствует всю шаткость и маргинальность своего положения, неприкаянность, неспособность создать абсолютный шедевр, который восстановит его репутацию в глазах сограждан – и отца.
Не случайно в этот период он много пишет: уже не только коротенькие заметки, списки или рецепты на полях заполненных рисунками листов, как это привыкли делать его коллеги-современники. Теперь записи Леонардо фиксируют движение его мысли, первые значительные научно-технологические наблюдения, страстное погружение в немногие, но определяющие книги, яркое восприятие жизни и мира вокруг. Необычайное приключение, которое будет продолжаться день за днем, на тысячах и тысячах страниц, вплоть до самой его смерти.
Так, например, на нескольких листах из Атлантического кодекса и Кодекса Арундела рождается старейшее литературное произведение Леонардо: видение морского чудовища и пещеры, фрагментарный натурфилософский рассказ, описывающий встречу с самой Матерью-природой[175].
Начинается эта история просто: Леонардо наблюдает постепенный процесс роста земли, живого организма, который, мало-помалу распространяясь на весь мир, поглощает и остатки древних цивилизаций. В этот момент появляется огромное морское чудовище, бороздящее воды океана, символ и инструмент безграничной мощи: «могущественное и некогда одушевленное орудие искусной природы»[176]. Чудовище, очевидно непобедимое и превосходящее всех прочих живых существ, вынуждено, однако, склониться перед высшей силой, тайным законом необходимости. Бестия выбрасывается на пляж и, побежденная смертью, становится иссохшим остовом, который со временем, покрывшись наносами и отложениями, оборачивается высокой горой. Земля между тем продолжает расти, пока не сжимает объем воздушной сферы, что ее окружает, не заключает в своих недрах воду и едва не достигает пределов сферы огня, после чего пламя превращает земную поверхность в высохшую, безжизненную пустыню: «И таков будет конец земной природы».
Возвращаясь к образу живой пещеры (костяк морского чудовища, доспехи высокой горы), Леонардо вдруг начинает рассказывать историю от первого лица. Это необычный фрагмент, раскрывающий нам во всей глубине стремления и тревоги его души, беспрестанно волнуемой «жадным своим влечением», жаждой познания, побуждающей его «увидеть великое смешение разнообразных и странных форм, произведенных искусной природой». Добравшись до входа в пещеру, Леонардо тщетно пытается заглянуть внутрь. Он нагибается, приноравливается к темноте, и движения его столь реалистичны, что кажутся списанными с натуры: «Дугою изогнув свой стан и оперев усталую руку о колено, правой затенил я опущенные и прикрытые веки». Но все бесполезно, слишком густа тьма. И вот в нем возникают два противоположных, но одинаково сильных чувства, страх и желание: «Страх – пред грозной и темной пещерой, желание – увидеть, не было ли чудесной какой вещи там в глубине». Разрываясь между желанием войти, чтобы обнаружить первопричину, и иррациональной боязнью темноты, Леонардо словно бы интуитивно догадывается, что в основе гигантской машинерии мира нет ничего, кроме пустоты, небытия.
Размышления выливаются в то, что выглядит настоящим диспутом о законах природы. Реплики сторон чередуются, им, как в схоластических дебатах, предпосланы ремарки pro и contra, «за» и «против». На первое возражение contra («Почему природа не запретила одному животному жить смертью другого?») pro, напомнив исходный посыл о постоянном расширении природы, отвечает, что так она, похоже, сама исправляет ситуацию, предписывая, «чтобы многие животные служили пищей одни другим», а также при помощи стихийных бедствий, периодически истребляющих часть живых существ. Отвечая на новое возражение contra, pro заключает: всеми существами, и самим человеком, что «уподобляется бабочке в отношении света», движет одно и то же «желание водвориться на свою родину и вернуться в первое свое состояние», которое, следовательно, является не чем иным, как желанием «разложения», смерти. Желанием, изначально заложенным в ту же квинтэссенцию, дух стихии и душу внутри человеческого тела. Вот почему душа желает вернуться к своему создателю: «И хочу, чтобы ты знал, что это именно желание есть квинтэссенция – спутница природы, а человек – образец мира».
«Уподобляется бабочке в отношении света»: маленькая ночная бабочка, летящая к огню, что ее поглощает, – символ «желания водвориться на свою родину и вернуться в первое свое состояние». Но истинным героем этого рассказа, инструментом необходимости, является время, превосходящее саму природу: именно оно меняет каждое существо, жизнь и красоту, делает возможным течение вещей: «Со временем все изменяется»[177]. Именно с течением времени происходят все описанные в рассказе sperientie и явления: расширение земли, исчезновение цивилизаций, невероятное скольжение морского чудовища по гребням волн, его гибель и перевоплощение в гору, гроты и окаменелости, бывшие некогда живыми существами, и, наконец, обращение земли в безжизненную пустыню. Торжествующее время превозмогает даже смерть (для точности формулировок лучше употребим слово «разложение»): как для любого живого существа, так и для мира, как для микрокосма, так и для макрокосма. Речь идет о распаде совокупности костей, нервов, оболочек, органов, частиц и атомов с последующей их рекомбинацией в новые единицы, новые формы.
Попробуем теперь распознать книги, прочитанные Леонардо в описываемые годы и способствовавшие формированию его оригинального представления о природе.
Прежде всего, это величайшая энциклопедия естественных наук – «Естественная история» Плиния Старшего. Описание морского чудовища напоминает сразу несколько глав книги IX, посвященных населяющим океаны китам и другим чудовищам, этим превосходным орудиям природы; отсюда же и образ полого остова, образовавшего огромную пещеру, со временем ставшую частью горы.
В пророчестве о конце света и самой жизни, основанном на неизбежных последствиях законов природы, слышны характерные интонации позднесредневековой проповеди и литературы об Апокалипсисе и Страшном суде, от Антонио Пуччи до Луиджи Пульчи, интонации, встречающиеся также в «Триумфе Вечности» Петрарки.
И, разумеется, Данте – Данте «Комедии», но в не меньшей степени и «Пира».
Красноречивое свидетельство этому – лист из Атлантического кодекса, где представлены короткие заметки о прочитанном[178].
На обороте – рецепты ароматов и красок[179]. Помимо набросанного другой рукой черновика сонета, в котором друг просит простить ему некую вину (не донос ли за содомию?), можно прочесть также несколько строк из «Посланий» Луки Пульчи и «Триумфа Любви» Петрарки, но главное – отрывки из «Метаморфоз» Овидия, приведенные не на латыни, а в переложении на вольгаре, сделанном нотариусом из Прато Арриго де Симинтенди.
Первый из таких отрывков – начало тринадцатой книги, речь Аякса, вступающего в спор с Улиссом за обладание доспехом Ахилла. Затем переход к пятнадцатой, последней книге, к фрагменту о неумолимом беге времени, перед которым бессильно сдается и истлевает даже великая красота: «Плачет и Ти́ндара дочь, старушечьи видя морщины / В зеркале; ради чего – вопрошает – похищена дважды? / Время – свидетель вещей – и ты, о завистница старость, / Все разрушаете вы; уязвленное времени зубом, / Уничтожаете все постепенною медленной смертью»[180].
Да, «Метаморфозы» Овидия стали для молодого Леонардо во Флоренции 1470-х годов одной из величайших книг о природе. Нам также известно имя владельца манускрипта, возможно, одолженного художником, но так и не возвращенного. Внизу листа, после цитат из Овидия, по сути проставлен экслибрис: «Книга сия принадлежит Микеле ди Франческо Бернабини и его потомкам».
Там же, внизу, заключительный фрагмент: «Скажи, скажи, скажи, как там обстоят дела и что намеревается делать Катерина, / скажи, скажи, как дела». Возможно, это начало письма дяде Франческо с просьбой предоставить информацию о Катерине. Или, может, всего лишь проба пера – в таком случае, однако, эта запись приобретает еще более серьезное значение, поскольку Леонардо впервые спонтанно, неосознанно упоминает имя матери. Имя Катерины.
Вопросов множество, но ответов на них нет. К концу 1481 года Леонардо остается лишь горькая неопределенность.
В октябре для росписи стен Сикстинской капеллы в Рим вызваны лучшие флорентийские живописцы: Боттичелли, Синьорелли, Гирландайо и Перуджино. О нем никто не вспоминает.
Верроккьо, учитель и второй отец Леонардо, тоже собирается уезжать. В Венецию его зовет величайшее произведение и дело всей жизни, конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони. Мастерскую он поручает тому из учеников, кому долгие годы доверялся, считая самым надежным: уж точно не Леонардо, а Лоренцо ди Креди, который и станет его наследником.
Более того, Леонардо по уши в долгах: монахам Сан-Донато он задолжал за так и не оконченное «Поклонение волхвов»; братьям-иезуатам – за краски и незавершенного «Святого Иеронима»; Синьории – 25 флоринов, полученные в 1478 году авансом за образ святого Бернарда и неотвратимо числящиеся за ним в книге должников Палаццо до 1511 года; и даже торговцу Джованни ди Никколо Бини, к взысканию в пользу которого суммы в три флорина, 19 сольди и 4 денаро Торговый суд 4 апреля 1481 года приговорил «художника Лионардо ди сер Пьеро да Винчи» за покупку дорогостоящего «отреза зеленого атласа на дублет», по-видимому, так и не оплаченного[181]. Повестка, доставленная накануне «по месту его проживания» нарочным, вручена одному из помощников («некоему юноше лично в руки»), поскольку сам мастер отсутствовал или в разумное время не был найден: вероятно, прятался где-то в доме.
Дальше так продолжаться не может. Подобными темпами Леонардо рискует снова оказаться в тюрьме Стинке. На рубеже тридцатилетия внебрачный сын нотариуса, не видя перед собой великого будущего, при первой же возможности пускается в бега. Чтобы снова обрести свободу.
II
Разносторонний гений
1
Серебряная лира
Милан, февраль 1482 года
Еще морозно. Ломбардская низменность, изборожденная реками и каналами, по которым лениво скользят баржи, укрыта легким снежным покрывалом. Однако день ясный, воздух чист. Леонардо, спешившись, взбегает по насыпи и впервые видит Милан. Там, на севере, на фоне седых, равнодушных альпийских вершин, высится громада собора, величественная даже в незавершенном виде.
Зачем он пустился в дорогу, в свою первую большую поездку, которой суждено изменить всю его жизнь, превратив ее в долгое, бесконечное путешествие?
Согласно биографам-современникам, художник должен лишь отвезти герцогу музыкальный инструмент, подарок от Лоренцо Великолепного. Вот что пишет «Гаддианский аноним»: «Был он красноречив в беседах и редкостно играл на лире, чему обучал также и Аталанте Мильоротти. […] Ему исполнилось 30 лет, когда означенный Лоренцо Великолепный отправил его вместе с Аталанте Мильоротти к герцогу Миланскому, чтобы подарить лиру, ибо один только он и умел играть на том инструменте». Выходит, миссия необычного посланника, «редкостно играющего на лире», – не более чем изысканный обмен любезностями, как если бы даритель и одаряемый не принадлежали к числу самых могущественных и бесцеремонных персонажей итальянской, да и европейской политики того времени. Под герцогом, естественно, имеется в виду Лодовико Сфорца по прозвищу Моро, Мавр, хотя герцогом Миланским он не является. Конечно, и герцогство, и истинный суверен, несовершеннолетний племянник Джан Галеаццо Мария Сфорца, полностью в руках Моро, однако пока его единственный титул, дарованный неаполитанским королем, – герцог Бари.
Вазари, напротив, опускает имена Лоренцо и Аталанте, заодно внося некоторую путаницу в отношении герцога и дат (что делает истинную причину поездки еще более загадочной), а также добавив кое-какие детали, возможно вымышленные, однако значимые для биографической легенды об удивительном и причудливом гении, человеке всесторонне одаренном, хотя и не всегда надежном. Для него Леонардо – фактически не только гонец, но и создатель инструмента, целиком сделанного из серебра «в форме лошадиного черепа, – вещи странной и невиданной, – чтобы придать ей полногласие большой трубы и более мощную звучность», то есть сконструированной таким образом, что корпус резонировал значительно сильнее, чем у обычной лиры, придавая аккомпанементу особый, почти колдовской эффект и характер. Чтобы понять, как этот инструмент был сделан, достаточно взглянуть на один из самых необычных рисунков Леонардо: череп чудовищного животного, поверх которого, от передних зубов до шейных позвонков, натянуты струны для виолы[182].
В общем, продолжает Вазари, Леонардо, явившись ко двору, выступает перед герцогом и, разумеется, без особых усилий превосходит всех прочих музыкантов. Для читателя Вазари это вовсе не сюрприз: о Леонардо-музыканте уже многое сказано в самом начале его биографии. Будущий разносторонний гений, наделенный от природы «духом возвышенным и полным очарования», вместо того чтобы делать успехи в таких скучных предметах, как расчеты на абаке и грамматика, предпочел посвятить себя музыке, научившись играть на лире да браччо, струнном инструменте, родственном виоле, и петь, импровизируя под ее аккомпанемент, да так, что стал «лучшим импровизатором стихов своего времени».
Страсть Леонардо к музыке – вовсе не выдумка его первых биографов. Навыки конструирования, игры на музыкальных инструментах и даже пения прослеживаются в его рукописях: здесь и исследования акустики, особенно распространения звука; и теоретические вопросы музыкальной гармонии; и зарисовки необычных ударных, духовых и струнных инструментов; и партитуры; и методико-практические указания по инструментальной музыке и пению.
Впервые явившись к герцогскому двору, Леонардо предстает интересным собеседником и музыкантом, исполняющим импровизированные поэтические тексты, скорее декламируемые, нежели пропеваемые, под нежный аккомпанемент лиры да браччо, как это делают и его знаменитые современники Серафино Аквилано и Баччо Уголини (последний – в двойной роли эмиссара Медичи и актера-певца в «Орфее» Полициано, поставленном в Мантуе).
Имя Аталанте Мильоротти, опущенное Вазари, но не «Анонимом», прекрасно вписывается в этот контекст. Юный ученик Леонардо в искусстве игры на лире более известен как «Аталанте делла Виола». Происходит он из флорентийской семьи Мильоротти: дом в самом центре города, на пьяцца дельи Альи, родня – видные деятели младшего цеха слесарей, друзья Медичи. Манетто Мильоротти несколько раз избирался приором и гонфалоньером, входил в совет; один из его родственников, Симоне ди Маттео, позже вспомнит в трогательном письме к Леонардо, как по-отцовски помогал ему в трудные флорентийские годы: «Вскармливал тебя молоком, что для сына готовил»[183]. Аталанте – внебрачный сын Манетто, указанный в его налоговой декларации за 1481 год: «Аталанте – сын мой внебрачный, четырнадцати лет»[184]. Незаконнорожденный, как и Леонардо, он тоже вместо азов торговли занялся музыкой, став настоящим виртуозом игры на лире, одним из тех молодых музыкантов, что вошли в моду при дворах того времени.
Таким образом, когда Аталанте сопровождает Леонардо в Милан, ему всего пятнадцать. Божественное дитя, прекрасное, как ангел небесный.
Леонардо не раз пытается уловить выражение лица Аталанте в тот момент, когда он вскидывает голову или оборачивается, его волосы, волной рассыпающиеся по плечам. «Голова в обрамлении кудрей», – записывает он в начале списка рисунков, а следом: «Голова в профиль с роскошной прической» и «Портрет Аталанте, поднявшего голову». Другая рука (самого Аталанте?) дополняет: «Голова юноши с роскошными волосами»[185].
Список этот представляет собой перечень рисунков и материалов для мастерской, в основном привезенных из Флоренции или созданных в первые миланские годы.
Вот, например, эскизы к живописным работам: «черновики Иеронима»; «голова Христа, исполненная пером»; «8 Бастианов» – варианты привязанного к дереву тела святого Себастьяна под градом стрел; головы и шеи стариков и старух, юных девушек и цыганок, обнаженные фигуры во весь рост, «множество ног, рук, ступней и торсов» и «множество набросков ангелов» для «Поклонения волхвов».
Леонардо упоминает даже имена некоторых натурщиков: помимо Аталанте, это «голова Иеронимо да Фельино» и «голова Джан Франческо Бозо» – вероятно, двух миланских придворных художников, Джироламо Фиджино и Джан Франческо Босси; есть также «голова герцога».
Встречаются и чужие работы: «безделица Джироламо да Фегине» и «сцена Страстей Христовых, исполненная в форме», то есть отпечатанная.
Затем – варианты Мадонн: «одна Мадонна законченная / другая почти, та, что в профиль / голова Мадонны, возносящейся на небеса». Последний из них, явно отсылающий к сюжету Успения, может быть фрагментом новой композиции или, кто знает, целым алтарным образом, о чем свидетельствует другое замечание: «4 рисунка для алтаря Санкто Аньоло». Не о первом ли миланском заказе Леонардо, для церкви Сант-Анджело ордена меньших братьев-обсервантов, идет речь?
Наконец, замыкают список упражнения на излюбленные темы: «множество цветов, изображенных с натуры», «множество рисунков соединений», т. е. узлов и сплетений, печей, геометрических тел в перспективе, навигационных, механических и гидравлических инструментов.
О том, что странное посольство для передачи лиры в самом деле имело место, свидетельствует забытый сонет Бернардо Беллинчони, флорентийского поэта и, следовательно, коллеги Лоренцо и Луиджи Пульчи, который должен был представлять Великолепного, однако не поехал: «Сонет для Лоренцо Медичи, когда он послал виолу герцогу Миланскому, а я, приняв это поручение, не поехал его исполнять»[186].
Впрочем, Леонардо отправился в Милан не один. Помимо Аталанте, компанию ему составляет весьма своеобразный персонаж, Томмазо Мадзини да Перетола, за манеру объявлять себя магом, философом и знатоком тайн природы получивший прозвище Зороастро. Зороастро – нечто среднее между мальчиком на побегушках и учеником, эксперт в области прикладного искусства, а также практического применения механики и ювелирного дела. К тому же он строит из себя незаконнорожденного отпрыска знатного рода, сына самого Бернардо ди Джованни Ручеллаи, выдающегося гуманиста и зятя Лоренцо Великолепного (Ручеллаи женился на его сестре Наннине). Страстный поклонник римских антиков, Бернардо, наряду с Лоренцо, Леоном Баттистой Альберти и Донато Аччайуоли, стал в 1471 году одним из главных действующих лиц памятного peregrinatio[187] по руинам Вечного города. Леону Баттисте, автору восхитительного фасада церкви Санта-Мария-Новелла и самого палаццо Ручеллаи на виа делла Винья Нуова, покровительствовал и его дед Джованни, скончавшийся в 1481 году. А в числе тех, кто регулярно оказывал Джованни и его семье услуги, мы, разумеется, находим имя нотариуса сера Пьеро да Винчи[188].