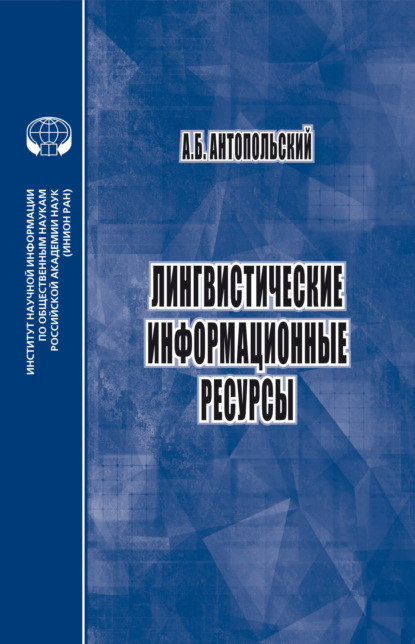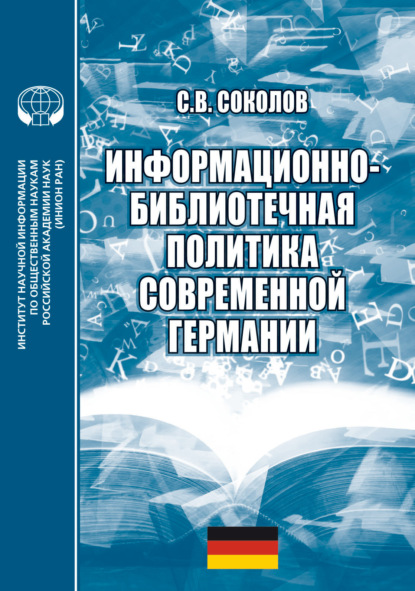Полная версия
Этика науки
Научное и технологическое развитие постоянно воспроизводит «ошибку Декарта» – идею сведе́ния экзистенциального уровня к машинному уровню. И философия Полани – именно то, что эффективно противостоит подобному редукционизму. При этом Полани парадоксально и изобретательно использует «машинную» же метафору, лишая ее механистического смысла и моделируя с ее помощью иерархическую (нередукционистскую) онтологию. Тем самым он реабилитирует технологическое развитие как не посягающее на экзистенциальный уровень социальной жизни. Признавая теоретическую опасность замещения «экзистенциального» общества «машинным» (о чем предостерегает Эллюль), Полани считает спасительным для человека и общества само устройство человеческого сознания, воспринимающего успехи науки и технологии «волнообразно»: за волной обольщения следует волна отрезвления. Эти отрезвляющие волны, дает понять Полани, и есть устойчивый в обществе механизм верховенства и контроля экзистенциального уровня над «машинным».
М. Полани велик как равный Т. Куну, теоретику парадигм научного развития. Более того, он гораздо определеннее Куна и пошел дальше него в разработке идеи научного мышления как мышления человеческого, преследующего объективное знание, но не способного высвободиться из личностного контекста со всеми его ценностями, традициями, культурными и социальными кодами и достигающего лишь интерсубъективного знания. Вытекающий из ключевого у Полани понятия личностного знания интерсубъективный смысл «объективного знания», собственно, и указывает на идею парадигмы. Но эта парадигма именно Полани, а не Куна. У Куна понятие парадигмы только обозначило выход науки в общество в смысле характеристики научного мышления как человеческого сознания, «нагруженного» социальными, культурными, личностными ценностями и не способного выполнить сциентистское требование объективизма. Подобная характеристика научного знания у Куна лишь подразумевается – самим понятием парадигмы, уничтожающим сциентистское представление о научном развитии в представлении об историчности принципов этого развития, и принципа научной истины в том числе. И если Кун хотя и определенно, но только намекнул на интерсубъективный характер продуктов научного мышления, то Полани сказал об этом прямо в детальной разработке понятия личностного знания. Оба мыслителя пришли к одному и тому же выводу, но каждый своим путем.
Между тем эпистемология Полани указывает не только на Куна, но и на такого крупного мыслителя, как ведущий физик-теоретик конца XIX в. Л. Больцман, который более чем за полвека до Полани высказывал те же самые идеи в области теории познания [16]. Больцман вполне мог бы для своих эпистемологических размышлений взять знаменитый эпиграф Полани, который тот сочинил к разрабатываемому им понятию личностного знания: «Я знаю больше, чем могу сказать». Имеется в виду то, что Полани называл «скрытые указания» (tacit intimations) – «неявное знание», представляющее важную структурную часть личностного знания. «Подобно Полани, Больцман полагал, что все эти „стартовые“ в исследовательской работе рамки в виде набора определенных правил и норм типично и ошибочно рассматриваются как неподвижные и бесспорные. Он и Полани понимали, что истинная инновация, фундаментально новое открытие требует от исследователя не брать ничего как само собой разумеющееся, даже правила формальной логики, и что реальный исследователь во многом полагается на неформальный ресурс „неявного знания“» [14, p. 158].
Идея Полани личностного / неявного знания – это идея единства, целостности научного, технологического, человеческого и общественного развития, целостности, в которой неустранимо ее идущее от человека этическое содержание. Полани прямо об этом говорит, указывая на научный рационализм XX в., абсолютизировавший требование научной точности, как на явление «научного мракобесия» (scientific obscurantism) [11]. Он называет программу современного научного реализма искажающей не только научное, но и в целом интеллектуально-культурное развитие, поскольку она вторгается во все сферы интеллектуальной культуры. Один из ключевых мыслителей эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо провозгласил моральную ответственность предметом естествознания в представлении о «социально неиспорченном индивиде». Полани понял, что эта «рациональная» редукция человеческих и социальных проявлений к биологическим и физико-химическим основаниям проявилась у З. Фрейда. Фрейд воспроизвел идею «прекрасной дикости» Руссо в концепции либидо, сдерживаемого социальными «тормозами», которые играют негативную роль, вызывая у «социально сдерживаемого» человека психическое заболевание. Согласно Полани, подобную же «рационалистическую» линию в отношении морали, превращенной в чистую условность, можно проследить от Бентама к К. Марксу. Маркс считал, что «право больше не достигается торжеством морали над пристрастием, но торжеством одного класса над другим классом» [11, p. 174]. Современный ум, по Полани, сформирован противоречивой комбинацией морального скептицизма и морального негодования, которая произвела феномен современного нигилизма. Первое воплощение этого феномена – русские нигилисты середины XIX столетия, боготворящие естествознание, и лишенные почвенных корней позитивисты. В XX в. нигилизм сменился сциентизмом, во что и выродилась программа научного рационализма – в инструмент «бесчувственного» продвижения редукционистской (позитивистской) программы познания, предусматривающей изъятие из науки всего того, что не может быть переведено в «точное» знание. Что это, если не принцип «цель оправдывает средства»? Цель – «точное знание», и ради нее не просто допустимо, но необходимо насилие над «мешающими» ей фактами. Не так ли действовали в XX в. фашизм и большевизм, обратившиеся к безжалостному насилию для достижения своих политических целей, измеряющие свою эффективность в качестве субъекта морали степенью зла, которую они обязаны принести и которая им простится ради достижения намеченной цели? Однако никакая программа научного рационализма не может отменить реальную практику познания, осуществляемую «персонами», а они инстинктивно, по человеческой природе подчинены вектору не «объективного», а персонального знания. Субъекты реального познания не позитивисты, поскольку в рабочем познавательном процессе опираются на собственную (персональную) интуицию истины, получая на выходе знание, из которого уже невозможно изъять персональную / этическую составляющую, хотя это артикулируемое знание и объявляется «объективным».
Из сравнения этических требований к ИР Эллюля и Полани понятно, что оба видят не в самих ИР, а именно в их человеческом факторе причину, по которой продукты ИР могут и не работать во благо общества. Эллюль относит это на счет несовершенства, неидеальности реального человека, который в роли профессионального производителя научной / технологической продукции выключает в отношении ее производства моральную рефлексию. Разрабатывая идею персонального / неявного знания, Полани тем самым согласен с Эллюлем, что ИР несут персональную (этическую) ответственность их авторов. В связи с этим оба считают, что проблема социальной / этической ответственности научно-технологического развития может и должна быть решена отказом от традиционной парадигмы этической оценки ИР (когда такая оценка производится в отношении уже готовой, работающей в обществе продукции ИР) в пользу новой парадигмы исследовательской этики (ИЭ), предусматривающей непрерывное сопровождение этической оценкой всего процесса ИР – от замысла до готовой продукции.
Традиционные академические инструменты этического наблюдения за научным / технологическим производством исторически обязаны позитивистским биомедицинским исследованиям, вызывавшим серьезные этические вопросы в связи, например, с изучением такой «социальной» болезни, как сифилис, практикой нацистских медиков во Второй мировой войне и другими подобными прецедентами, явно требующими моральной оценки. Однако биомедицинская парадигма этического надзора над исследованиями едва ли пригодна в области общественных и гуманитарных наук (ОГН), где нет такой, как в биомедицине, откровенно бинарной (в смысле нарушения / ненарушения морали) ситуации. Более того, исследователи считают, что «перенос этических регуляторов из биомедицинской области, где они были развиты, в область ОГН несет прямую угрозу для этой области» [7, p. 96]. Возможно, слово «угроза» здесь чрезмерно, но им подчеркивается, что в этическом отношении область ОГН не такая определенная, как биомедицинская область. Абсолютное очищение ОГН от любого рода «этических упущений» представляется неосуществимым и нежелательным, поскольку это лишит исследователей гибкости и глубины подхода к сложным, непрозрачным и неоднозначным этическим ситуациям, характеризующим человеческую / социальную реальность. Поэтому и необходима новая модель ИЭ, которая охватывала бы и биомедицину и ОГН и имела бы практическое применение в этом широком исследовательском поле.
Традиционный академический процесс контроля над ИЭ заключается в том, что комиссия по такому контролю рассматривает заявку на исследование, проблемное с точки зрения ИЭ. Она дает или не дает разрешение на проведение этого исследования, основываясь на принципах ИЭ, выведенных опять же из биомедицинской исследовательской практики. По своему генеральному предмету и биомедицинская исследовательская область и область ОГН одинаковы: в обеих исследователь вторгается в мир человека. Однако с точки зрения ИЭ биомедицинская исследовательская область – иная, чем область ОГН, поскольку риск участников исследования в обеих областях заметно различается. В биомедицинской области участники рискуют иногда жизнью или серьезными органическими повреждениями, в то время как риски участников в области ОГН связаны с вторжением в их частную жизнь, нарушением их прав. «Уровень вреда для участников исследований в области ОГН несопоставимо ниже тех злоупотреблений, которые имели место в нацистских медицинских экспериментах или биомедицинской науке 1950–1960-х годов, когда именем науки людей просто убивали либо вызывали у них устойчивую ментальную неспособность» [7, p. 98]. Однако продолжается практика, когда во многих юрисдикциях все без исключения исследования подпадают под одни и те же процедуры этического контроля и не делается никаких попыток дифференцирования в этом отношении разных исследовательских областей. Кроме того, природа био-медицинских исследований такова, что между исследователем и участником исследования существует огромная информационная асимметрия: исследователь знает об эксперименте все, а исследуемый – ничего. Иная ситуация в большинстве исследований в области ОГН: участники являются не «подопытными кроликами», а информаторами, экспертами в своей области, предоставляющими свое знание ситуации относительно неинформированному исследователю. То есть участники исследований в области ОГН становятся, скорее, партнерами исследователей, помогая формировать исследовательскую повестку. Тем самым они сглаживают различие между исследователем и участником, обычно очевидное в биомедицинских науках. Все это выливается в более сложные связи, игнорируемые существующими процедурами контроля над ИЭ. «Следовало бы начать разработку более детализированной модели взаимодействия исследователей и участников внутри области ОГН, модели, которая бы делила исследовательскую и человеческую ответственность между обеими сторонами» [7, p. 98].
Более детализированная модель контроля над ИЭ необходима по следующим основаниям. Во-первых, комиссии, призванные осуществлять надзор за ИЭ, все более осторожны в выдаче разрешений на проведение исследований, «чувствительных» для изучаемого предмета, например когда исследуемые – школьники. Такая практика сдерживания «острых» работ ведет лишь к стагнации научных дисциплин. Во-вторых, распространение негибкого этического контроля на область ОГН оборачивается существенными ограничениями для методологий исследовательского «погружения» (immersive methodologies). Если такие методологии не поощряются этическим контролем, то изучаемые культуры и сообщества без исследовательского в них «погружения» остаются непонятыми, и тогда наука просто не выполняет своих задач. В-третьих, выполнение в исследовании, проводимом в области ОГН, существующих требований этического контроля не означает, что исследование автоматически становится этическим. Может случиться так, что исследователи будут отвлечены от реальных проблем, и прогресс знания не состоится. В научной литературе определены пять ключевых понятий ИЭ (выбор их обусловлен наиболее частыми на них ссылками), которые должны лечь в основу искомой для ОГН модели этического контроля: 1) информированного согласии (требование от исследователя исчерпывающего объяснения участникам эксперимента исследовательских целей и смысла, чтобы участники могли принимать вполне осведомленные добровольные решения о своем участии); 2) анонимности (защита частной жизни и конфиденциальности участников исследования); 3) риска возможного вреда (понимание и оценка самими участниками исследования рисков, которые может нести исследование); 4) взаимодействия (сотрудничество исследователей и исследуемых на основе взаимного доверия и в интересах обеих сторон); 5) опыта и профессионального умения исследователя (более опытный и профессионально умелый исследователь предпочтителен в создании атмосферы доверия внутри исследования) [7, p. 103–104]. Очевидно, что предлагаемая модель ИЭ делает упор не на внешний этический надзор, а на создание этической атмосферы самого исследования, на этический самоконтроль исследования.
ИЭ в области ОГН имеет также еще один аспект – исследования в этой области всегда несут определенные обязательства в отношении тех, кого исследуют. Например, феминистские и другие критикующие социальную реальность общественные движения привлекают внимание ко многим внутринаучным напряжениям между исследователями и исследуемыми в случаях, когда исследуемые относятся к иной расовой, этнической, гендерной группе. Между тем усилия ученых-обществоведов, направленные на проявление большей исследовательской этики и ответственности, достигнут своей цели, если будут опираться на осознание того, что между взаимодействующими людьми, в том числе между исследователями и исследуемыми, всегда существуют напряжения. Только такое понимание способно активизировать моральное сознание ответственности у сторон взаимодействия. «Понимание» в данном случае означает, что исследователи не просто идентифицируют межличностные напряжения, но, что более важно, «переживают» эти напряжения в их динамике вместе с респондентами. Следует отметить, что сегодня идентификация коммуникационных напряжений является не только предметом теоретического и прикладного анализа, но и исследовательской методологией. И это показывают исследования, использующие такую методологию, которые выполняются в новой парадигме ИЭ – парадигме этического самоконтроля (к чему и призывали Эллюль и Полани). Методология идентификации коммуникационных напряжений не нацелена на получение точного знания об изучаемом предмете, но побуждает в отношении предмета к этической рефлексии, рассматривая его как часть человеческой коммуникации – с этических позиций [10].
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.