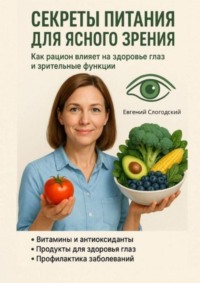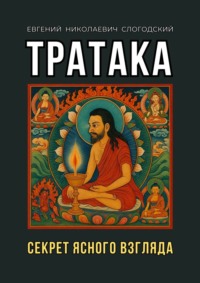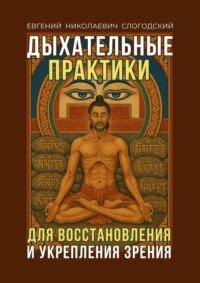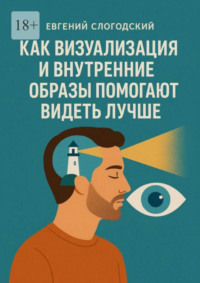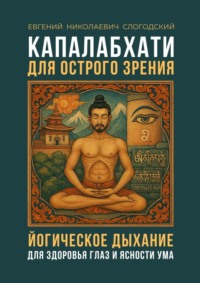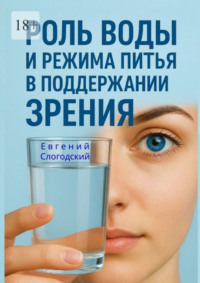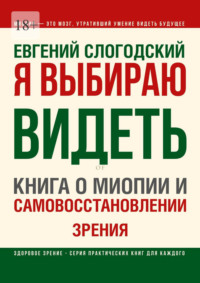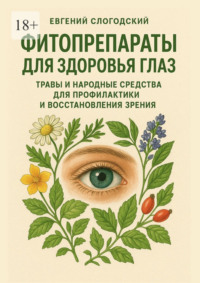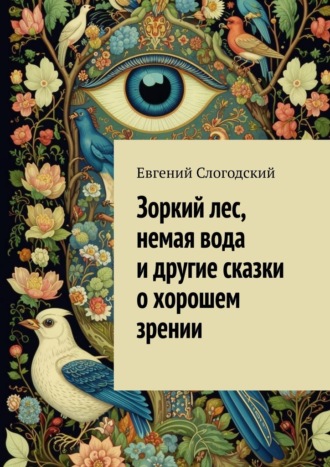
Полная версия
Зоркий лес, немая вода и другие сказки о хорошем зрении

Зоркий лес, немая вода и другие сказки о хорошем зрении
Евгений Слогодский
© Евгений Слогодский, 2025
ISBN 978-5-0067-4120-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Зоркий лес, немая вода и другие сказки о хорошем зрении
ПРЕДИСЛОВИЕ
Смотри глубже
Ты держишь в руках не просто книгу. Это не сборник, не методика, не фантазия. Это – живая дверь. Или, если хочешь, глаз. Тот самый, что давно закрыт внутри тебя – но всё ещё смотрит.
Эти сказки я собирал не в кабинетах – в избах, банях, лесных сторожках. Мне их рассказывали шёпотом. Не потому, что тайна – потому что сила. Старухи с глазами, как стеклянные капли. Деды, у которых взгляд – как ветер. Я не записывал – я вдыхал. А потом – возвращал.
Сегодня я точно знаю: Плохое зрение – это не только про глаза. Это про потерянную душу.
Так говорили в русской традиции. Если человек перестал видеть – значит, кто-то увёл его из себя.
Кто? Неважно.
Может быть, стресс в личной жизни.
Может быть, кикимора из мира фантазий.
Может быть, глазливая соседская старуха.
Может быть – экран монитора или социальные сети.
Но если зрение ушло – значит, его можно вернуть!
Эти сказки возвращают.
Сказка – это не просто образ. Это настройка восприятия.
Ты начинаешь читать – и зрение начинает меняться.
Буквально. Глаз начинает «дышать». Внутриглазное давление снижается. Зрачок «слушает». Сетчатка просыпается.
А зрительный нерв – оживает.
Ты читаешь – и вдруг замечаешь, что видишь ближе.
Чётче. Глубже. Мельче. Дальше.
Кто-то после этой книги начинает видеть, как левша – пальчики на лапке блохи.
Кто-то – как филин, различая предметы в полной темноте.
А кто-то – как орёл, замечая человека на горе, где раньше была просто дымка.
Я не преувеличиваю.
Я видел это. Я слышал это от людей. Я наблюдал, как после прочтения уходил астигматизм, снижалось давление, исчезала «пелена», и зрение возвращалось даже у тех, кому сказали: «Невозможно».
Иногда вместе со зрением возвращается нечто большее.
Как будто ты вдруг понимаешь, куда идти. Кого обнять. Что отпустить.
Ты не просто видишь – ты возвращаешь себе свою судьбу.
А тем, кто захочет пойти дальше, я дал инструменты:
тренажёры, упражнения, символы и практики, собранные за годы поисков.
От «Узла Счастья» до нейро-тренажёра МНОТ, от простых упражнений до онлайн-методик – всё это работает не вместо сказки, а вместе с ней.
Сказка снимает сглаз.
Расплетает порчу.
Возвращает тебе зрение. И не только духовное.
Самое настоящее. Телесное. Живое. Орлиное.
Такова её природа. Поэтому я говорю тебе просто: Если ты дочитаешь эту книгу – ты начнёшь видеть. Я не скажу, как именно. Но скажу с уверенностью: зрение изменится.
Возможно – навсегда.
А если не поможет – значит, читали невнимательно.
Придётся перечитывать!
Твой Евгений Слогодский
ВСТУПЛЕНИЕ
Часть 1. Наследие Бабы Кали
В Сузунском районе Новосибирской области есть деревня с коротким, будто ласковым названием – Бедришка. Именно там, в окружении лесов и лугов, где трава растёт выше пояса, а небо кажется шире, чем где-либо на земле, прошло моё детство.
Каждое лето я приезжал к своей прабабушке, которую звал просто – Баба Каля.
Она была потомственной ведуньей и славилась в округе своими знаниями. Люди приезжали к ней издалека – не просто лечиться, а потому что знали: Баба Каля умеет то, чего не умеют другие. Она не лечила таблетками.
Она разговаривала с болезнью, смотрела сквозь тело, сквозь человека, в самую суть.
Однажды в деревне меня сильно напугала соседская собака – чёрная, с жёлтыми глазами. Я тогда начал заикаться.
Слова застревали в горле, как будто кто-то сжимал мне язык.
Баба Каля ничего не объясняла.
Просто поставила миску с водой, зажгла свечу, растопила воск и начала лить.
Я сидел, как заворожённый. Пахло воском, горячим металлом и чем-то старинным, как изнутри сундука. И вот на застывшем воске – отчётливо, чётко – отпечаталась та самая собака. Она посмотрела на меня с поверхности воска, как живая.
Баба Каля кивнула: «Вот она, страх твой. Ушёл».
И правда – с того дня я перестал заикаться. Словно кто-то отпустил узел в горле.
Другой раз у меня на глазу выскочил ячмень. Щипал, мешал, противный.
Баба Каля подошла, посмотрела, ничего не сказала. Потом просто тихо прошептала что-то себе под нос и трижды плюнула мне в глаз. Я дернулся, было противно.
Но прошло – почти сразу. Минут через пять-семь – будто и не было. Я ещё подумал: может, дело не в плюнье, а в чём-то другом?
Но нет – она просто знала, как. Она разговаривала с глазом, как с ребёнком, успокаивала его.
С бабой Калей мы много путешествовали. Не в дальние края, а по деревням и сёлам – по всей Новосибирской области, дальше – в Алтайский край, в Красноярский.
Я шёл с ней, как с учителем, хотя тогда не понимал, насколько это было важно. Мы встречались с другими ведунами, колдунами, шептунами.
Я видел, как они творили чудеса: кто-то заговаривал воду, кто-то лечил людей дымом, кто-то рисовал углём знаки на полу и пел полушёпотом.
Они уважали Бабу Калю. Когда мы приходили, мужчины вставали, женщины кланялись, дети замолкали. Они менялись с ней опытом, делились словами, заговорами, рецептами. А я впитывал всё – молча, глазами, сердцем.
Но самым волшебным всегда оставался лес. Утром, перед тем как войти в чащу, Баба Каля останавливалась, закрывала глаза и начинала тихо шептать.
Это был её шёпоток. Я не понимал слов, да и не нужно было. Сама природа понимала.
После этого грибы будто сами вылезали из земли – поднимались из-под мха, выглядывали из-под опавших листьев, ложились ей в ладони.
Ягоды – будто светились из глубины травы. «Лес – он как человек, – говорила она, – если с ним по-хорошему, он всё
тебе покажет».
А вечером – сказки. Мы сидели у печки, и она рассказывала не истории, а живые миры.
Однажды, когда она говорила про девочку, потерявшую зрение и нашедшую его через голос птицы, я вдруг заметил: из-под пола вылезла мышка. Села у печки, напротив нас, и замерла. Она не ела, не бегала – просто слушала. Я не шелохнулся.
До сих пор думаю: это была настоящая мышка? Или это была сказка, которая ожила? Я тогда погрузился в мир бабкиных слов так глубоко, что реальность и фантазия переплелись. Может, и это была правда.
Баба Каля учила меня видеть. Не глазами, не головой – а всем собой. Через землю, запах, слово, прикосновение. Я ещё не знал, но именно тогда начался мой путь.
Часть 2. Карта, которой нет на свете
После смерти бабы Кали в доме будто стало темно, даже днём. Исчез не только её голос, исчез сам ритм жизни – тот, что звучал в её шёпотках, в походке по утренней росе, в тишине между словами.
Печка ещё держала её тепло, половицы скрипели так же, но воздух был другим. И лес – он замолчал. Словно кто-то повернул ключ и спрятал дверь.
Я много лет не возвращался в Бедришку. Учёба, работа, суета.
Но внутри всё это время что-то звенело. Звук был тонкий, как натянутая леска, и я чувствовал его особенно сильно, когда слышал старинные песни, когда держал в руках старую книгу, когда кто-то начинал говорить так, как говорили только бабки в детстве – не словами, а смыслом.
Я стал искать. Сначала – по памяти. Потом – по книгам. Перечитывал Афанасьева, Бажова, исследовал этнографические дневники, ездил в архивы.
Я искал не просто сказки – я искал зашифрованные механизмы. Те, что баба Каля знала сердцем.
Я искал СКАЗЫ: не для убаюкивания, а для пробуждения. Такие, которые не просто развлекают, а щёлкают внутри – и открывают что-то в тебе. Что-то, что ты и не знал, что есть.
Потом начались дороги. Я вновь пошёл туда, где всё началось – в деревни. Только теперь – один.
Я ездил по Новосибирской области, по Алтайскому краю, уезжал в Красноярский, потом дальше – Вологда, Пермь, Архангельск. Искал тех, кто помнит. Кто хранит.
Кто рассказывает – не ради слов, а ради света в слове. Я приходил – и сидел, как когда-то с бабой Калей: молча, внимательно, с открытым нутром. Мне рассказывали.
Я слышал про озёра, которые не отражают лица, если ты врёшь себе. Про камни, что смотрят, но только слепыми глазами. Про людей, у которых глаз в ладони. Про узлы, в которых завязано зрение. Про чайники, что плачут глазами.
И каждую сказку я впитывал – как знание. Как живой образ, который может вернуть человеку зрение. Настоящее – не только глазами, но всем телом, всей душой.
А однажды я нашёл её старый блокнот. Потёртый, с треснутым корешком. Там не было слов – только точки. Маленькие, рассыпанные по страницам, иногда с приписками: «Северный лес. Дом с глазами». «Баба с зеркалом». «Старообрядцы. Река, что несёт очи».
Это была её карта. Не географическая. Не для навигации. А внутренняя. Карта тех мест, где слово всё ещё живо. Где сказка не рассказывается – а СЛУЧАЕТСЯ.
И тогда я понял: это мой путь. По этим точкам. От встречи к встрече. От рассказа к рассказу. Каждая – не просто история. Это дверь. А ключ – внутри нас.
Глава 1. Первая дорога. С чего начались мои странствия
Много лет спустя я уже знал: зрение – не просто физика.
Это и судьба, и зеркало, и огонь внутри. Я восстанавливал зрение другим, учил людей не только видеть, но и смотреть.
Но что-то оставалось невыясненным. Как будто между строк современной офтальмологии прятались строки фольклора. Как будто за диагнозом стояла сказка. А за симптомом – притча.
И я поехал
Не в институт – в деревню. Не к профессору – а к бабке, которая знает, как заговаривать «слезящиеся глазки». Не за статьёй – а за сказкой, рассказанной шёпотом у печки.
Я хотел узнать, как в русской народной памяти хранились ЗОРКИЕ ОБРАЗЫ.
Что знали о зрении те, у кого не было оптики, но было зрение насквозь.
Что передавалось через образы, а не через формулы.
Что лечило взгляд, ещё до того, как появились очки.
И вот – первая станция. Вологодская область. Деревня с названием, которого нет на карте: Лапотное-Гнездо.
Туда не ведёт асфальт. Там не ловит сотовая связь.
Но там живёт один человек, которого мне описали просто:
«Он не просто смотрит – он смотрит сквозь лес».
Дед по прозвищу Лесовик Тимофей.
Я добрался до райцентра на автобусе.
Потом – на попутке, где мужик молчал всё дорогу, только жевал чёрствый пряник. А потом – пешком.
Тропинка была размыта дождём. Под ногами – глина, мох, сучья. Один сапог остался в луже. Вторую ногу я сунул в трухлявый муравейник – он распался с мокрым шелестом.
Я ругнулся, но вслух – благодарил, что иду.
Дождь не шел – он висел. Мелкой пеленой, как дыхание деревьев.
Я чувствовал, как пальцы теряют тепло, как штаны липнут к ногам, как затылок звенит от тишины. Но шёл.
Когда показались первые серые избы, я подумал, что ошибся.
Деревня была полумёртвой: покосившиеся заборы, гнилые окна, пустые дворы. Но дым из одной трубы был живой.
Я пошёл туда.
Дом деда был будто бы собран из оставшихся обломков других домов: брёвна разной толщины, дверь перекошена, крыльцо – на тонких досках.
Но на ступеньке – сидел пёс. Старый, тёмный, с одним ухом.
И рядом с ним – дед.
Он не сразу посмотрел на меня.
Он говорил с собакой.
– Видишь, кто пришёл, – сказал он ей.
Пёс мотнул ухом, и только тогда дед поднял голову.
Глаза у него были… не тусклые, не острые – глубокие.
Будто лес в ноябре. Он смотрел не на лицо. Он смотрел внутрь.
Потом он сказал:
– А у тебя глаза-то не в глаза, а в душу глядят. Садись. Слушать будешь?
Я кивнул. Мы молча сидели на лавке. Он курил трубку, дым ложился на плечи, как шарф. Я дышал, чувствуя, как из меня выходит весь город.
Слова были лишними. Мы оба знали: сказка начнётся не сразу.
Сначала – тишина. Чтобы услышать – нужно затихнуть.
Так началась моя первая настоящая дорога. И первой сказкой стала та, которую мне рассказал Лесовик Тимофей.
А об этом – в следующей главе.
Глава 2. Зоркий лес
Я сидел на лавке под навесом, а дед Тимофей щёлкал сухие сучья и медленно клал их в железную печурку. Он был сухой, как и его дрова, с руками, будто вырезанными топором – жилистые, пористые, с коричневыми пятнами, словно кора на берёзе. Говорил он не сразу. Долго молчал. Долго втягивал воздух, будто слушал не воздух, а корни под землёй.
А потом, не оборачиваясь, произнёс:
– Видел когда-нибудь, как лес смотрит?
Я хотел пошутить. Но не успел.
– Лес глядит не глазами. Он глядит тенью. Глядит, как стоишь, как ступаешь, что несёшь в себе. Вот и слушай.
Он заговорил, и голос его стал другой – не как в разговоре, а как будто из-под корней, через мох и бересту.
Жил-был мальчик по имени Егóрка. Глаза у него были светлые, но не видел он почти ничего – будто весь мир был через занавеску. С утра – туман, в полдень – муть, а к вечеру и вовсе темень в глазах.
Мать его от печки не отходила: молилась, капала отварами, носила к попу – ничего не помогало. А дед, старый охотник, только хмыкал:
– Зрение у него не в глазах, а в пятках. Бегает, куда не надо, смотрит – а не видит.
Однажды отправился Егóрка в лес за грибами. Забрёл далеко, а тут – тишина такая, что и птица не чирикнет. И будто лес смотрит. Да не просто, а глазами деревьев.
Остановился Егóрка. А перед ним – ель с сучком, как будто глазом повёрнута. И шепчет:
– Стой. Не туда глядишь.
Егор испугался, закрыл глаза. А когда открыл – всё стало видно. Листья – как ладони. Корни – как пальцы. Каждое дерево – как человек. Кто добрый, кто злой, кто молчит, кто зовёт.
И пошёл он по лесу, глядя не глазами, а чем-то другим, что за
лбом шевелилось и в груди теплилось. Смотрел – и видел. Где лиса прошла, где заяц скрылся, где гриб дышит под мхом.
А к вечеру вышел он из чащи – не уставший, не испуганный, а просветлённый. С того дня зрение его прояснилось. А глаза у него остались те же – светлые. Только в них лес появился.
И если кто-нибудь спрашивал его:
– Как ты так зорко видишь?
Он отвечал:
– Лесом смотрю. Он во мне.
Тимофей замолчал.
Я сидел, не дыша. Не сказка – будто обряд.
Я не осмелился спросить: «Выдумал?»
Потому что знал – не выдумал.
– А тебе, – сказал он, – тоже бы не мешало на глаза не смотреть. Смотри в лес. Он покажет.
Мы вышли на улицу. Вечер.
Сосны стояли как стражи.
И правда – будто глядят.
Этот рассказ стал для меня первым ключом. Видение – это не функция, это со-настройка. В русской традиции это часто прячется в сказке: зрение появляется, когда не боишься смотреть, когда умеешь молчать, когда «внутреннее око» начинает работать. У деда Тимофея оно было открыто.
В следующей деревне мне расскажут о немой воде, которая отражает только правду. Но пока я иду в лес. Смотреть.
Глава 3. Немая вода
Вторая ночь в Лапотном-Гнезде выдалась еще более сырой и звенящей. Дождь не лил, а будто дышал в землю – мелко, туманно, изнутри. Я лежал на чердаке у деда Тимофея, укутавшись в старое армейское одеяло, и не спал. Потому что под самым моим боком, внизу, под скатом крыши, что-то капало. Не с крыши – изнутри. Капало ритмично, настойчиво. Как будто кто-то шептал водой.
Наутро Тимофей сказал:
– Пора тебе к воде сходить. К той самой.
– К колодцу? – спросил я.
– Не к колодцу, – сказал он, – а к ней. Она всё слышит. Только молчит. Оттого и зовут её Немой.
Он выдал мне жестяную кружку, показал тропу и добавил:
– Только не пей сразу. Сначала – помолчи над ней.
До Немой воды было минут сорок по мокрой листве. Дорога шла сквозь ёлки и плакучие осины, потом мимо заваленной часовенки, потом вниз, в ложбину. Там, между камней, стоял вековой деревянный сруб, чёрный, с обитыми берестой краями. В нём – вода, прозрачная, будто стеклянная, и в то же время – невидимая.
Я наклонился – и не увидел своего отражения.
Вода была гладкая, неподвижная и… молчаливая. Не звенела, не пела, не журчала. Просто была.
Я просидел у неё десять минут. Потом – тридцать.
Не пил. Не двигался. Только смотрел.
И вдруг – в толще воды, не у поверхности, а глубже – всплыла девочка. Лет шести, с косичками. Она смотрела прямо на меня, не мигая. Не пугающе – а серьёзно. Как будто проверяла.
И тут я услышал шаги.
Сзади, по тропе, пришла старая женщина – в телогрейке, в ситцевом платке, с ведром. Подошла и, не глядя, сказала:
– Увидел?
Я не ответил.
– Правильно. Те, кто сразу спрашивают – не видят. А кто сначала молчит – тем вода покажет.
Она зачерпнула воду, накрыла ведро тряпочкой и села рядом.
И заговорила. Не спеша, ровно, как будто сама вода говорит через неё.
– Давным-давно, – сказала она, – была деревня. Там родился мальчик. У него с рождения были мутные глаза. Ни свет, ни темнота. Ни тень, ни цвет. И вот, однажды, его мама повела его к этой воде.
Но вода не хотела говорить. Она была молчалива, как утро.
И тогда мать стала петь, не словами – а просто душой. Так, как поёт сердце, когда уже не надеется.
И в тот миг мальчик увидел – не воду, а то, что скрыто в людях. Он стал смотреть – и видеть. Не глазами, а изнутри.
С тех пор эта вода немая. Она не скажет. Но покажет.
Женщина поднялась, погладила по плечу:
– У кого зрение сбито, тем пить её нельзя сразу. Только смотреть.
– А вы кто? – спросил я.
Она улыбнулась и ушла, не назвав имени. Но я узнал её.
Это была баба Клава. Та самая, чьи шёпотки я позже запишу во второй книге. И рецепт её капель из очанки – в третьей.
А Немая вода осталась.
Молчаливая. Глубокая.
Зрячая.
В следующей главе я пойду дальше, к каменной гряде, где мне расскажут про глазастый камень, что видит даже во сне. Но перед этим – я вернусь к Немой воде. Посидеть. Без слов.
Потому что первое, чему учат в этих краях —
прежде чем смотреть – научись молчать.
Глава 4. Сказ о глазастом камне
Когда я вышел из Лапотного-Гнезда, в рюкзаке у меня было немного: нож, блокнот, старая карта, пара сухарей, и гвоздь. Я не знаю, зачем я взял гвоздь. Может, потому что дед Тимофей на прощание сказал:
– Пригодится. Чтобы не забыть, куда смотришь.
Шёл я долго. Через лес, мимо осенних вырубок, по краю болотца, где лягушки уже спали. К полудню вышел к странному месту: каменная гряда, плоские валуны, будто сложенные рукой великана, лежали друг на друге, как плиты. Место было тихое, без птиц, без ветра, без звука.
Там, среди валунов, сидел человек.
Старик. Сгорбленный. В меховой безрукавке. Сидел, будто вырос из камня, и держал в руках плоский серый булыжник, на котором был виден узор – глаз, чёткий, округлый, с тёмной точкой в середине.
– Глазастый, – сказал он, даже не оборачиваясь. – Ты про него, да?
Я кивнул. Он продолжал:
– Он не просто видит. Он снится. Кому приснится – тот прозревает.
Я присел рядом. Старик заговорил так, будто читал камень:
Было это давным-давно. Один человек, у которого оба глаза были целы, но душа была слепа, пришёл к этой гряде. Ходил кругами, ворчал, проклинал свой путь, искал виноватых в жизни. Устал – прилёг на камень, да и уснул.
А ночью увидел сон: перед ним стоит камень с глазом и говорит человеческим голосом:
– Ты смотришь – и не видишь. Я вижу – и молчу. Кто из нас зрячий?
Проснулся человек – и понял, что всё, что он видел раньше, было как шелуха. Он ушёл из этой долины и стал жить иначе – молча, наблюдая, не суетясь, не осуждая. Люди говорили, что он ослеп, но на самом деле – он стал смотреть глубже.
С тех пор сюда приходят те, кто не верит в зрение глазами. Камень не каждому показывает глаз. А кому покажет – тому снисходит тихий свет.
Старик передал мне камень.
Я взял.
И действительно – в центре булыжника была впадинка, гладкая, как отполированная века. И в ней – будто точка. Чернота? Пылинка? Или…
зрачок?
Я не знаю, сколько я смотрел.
Но потом, когда я отложил его, деревья вокруг стали как будто яснее. Линии – чётче. Краски – светлее.
И главное – в груди стало тише.
– А имя твоё? – спросил я.
Старик посмотрел в сторону и сказал:
– Зови меня, как хочешь. Тут не имена важны, а взгляды. Только не смотри слишком долго. Камень может и тебя приснить кому-нибудь.
Он ушёл. Растворился между валунами.
А я сидел и думал: что, если наше зрение – это только отпечаток сна, который видит кто-то другой?
В следующей главе я встречу девочку с глазом в ладони, и она покажет мне, что видеть – можно даже тогда, когда глаза закрыты. Но пока я положил гвоздь на тот самый камень – чтобы помнить, куда смотрю.
Глава 5. Девочка с глазом в ладони
После каменной гряды дорога вилась среди елей, как слепая змея, не знающая, где у неё голова. Я шёл не по компасу, а по какому-то странному внутреннему зрению, которое открылось во мне после того, как я подержал глазастый камень. Оно не подсказывало направлений, но подсказывало – где не надо быть. И этого было достаточно.
К вечеру я вышел к деревушке, чьё название никто не мог выговорить одинаково: кто звал её Тупилово, кто Путилово, кто – Глазовское. В центре стояла изба, на крыльце которой сидела девочка – лет восьми, может, десяти. Лицо у неё было обычное: нос, коса, тёплые щёки. Но глаза были закрыты.
– Зачем глаза закрыла? – спросил я, подходя.
Она не ответила. Только подняла правую ладонь, раскрытую, как цветок.
А в середине ладони – не рисунок, не тень, а самый настоящий глаз
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.