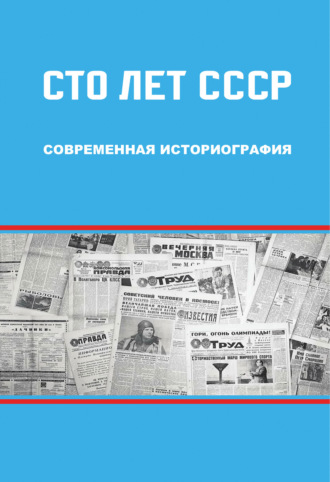
Полная версия
Сто лет СССР: современная историография
Чистота и хорошее здоровье напрямую ассоциировались с социализмом и «новым бытом», в то время как грязь и нездоровье – с дореволюционным домом. Не менее важными были дисциплина и решимость, необходимые для принятия нового кодекса и режима жизни. Так, в середине 1920-х годов многие коммуны выступили против «ненужных украшений», декора, орнамента и вообще всех предметов, которые не имели никаких функций, а лишь скапливали пыль и грязь. С большим воодушевлением коммунары смотрели на внедрение электрического освещения, рассматривая его как один из главных символов «нового быта» и важнейший способ кардинальных перемен в повседневной жизни (с. 549).
Заметным мотивом среди коммунаров было создание специализированных секций («красных уголков») для чтения, где размещались советская литература, газеты и журналы. Некоторые из наиболее успешных и амбициозных коммун выделяли целые комнаты для просвещения и рационального досуга. Революционный дом, каким его видели коммунары, «отвергал интимные пространства и буржуазный уют в пользу чистой и современной социалистической рациональности». Это пространство должно быть «символически непритязательным и физически гигиеничным, чтобы способствовать социалистической жизни – антитезе как грязным лачугам российских бедняков, так и чрезмерно роскошным резиденциям российских богачей» (с. 550).
Неприятие «российской отсталости» и «азиатских условий» быта основывалось на идее Октябрьской революции как «скачка вперед», попытки вырваться из исторических и географических «оков» России. Страх перед «отсталостью», точнее, перед возвращением «отсталости», был дополнительно спровоцирован возрождением изысканных ресторанов, кабаре и других «нереволюционных» развлечений в годы нэпа. Новое «обуржуазивание» повседневной жизни представлялось как угроза и вызов «новому быту» (c. 550).
В России ведущие большевистские мыслители, такие как А. Гастев и П. Керженцев, выступали за развитие тейлоризма в новом идеологическом обличии. Керженцев, к примеру, основал «Лигу времени», которая пропагандировала новую организацию времени на заводах, в школах и университетах. Вместо того чтобы просто стремиться к повышению эффективности труда и производительности, такие организации, как «Лига времени», полагали, что эффективность и временна́я дисциплина рационализируют свободное время, помогая повысить культурный уровень и самосознание пролетариата (с. 552). К примеру, коммуна Политехнического института в Петрограде составила ежедневное расписание, где с точностью расписывались все действия членов коммуны, начиная с момента утреннего пробуждения и заканчивая временем, когда они ложились спать. Было выделено определенное время для приема пищи, учебы и чтения, отслеживалась продолжительность времени, затрачиваемого на выполнение таких задач, как уборка в доме. Считалось, что правильно составленный график и система мониторинга приведут к повышению эффективности во всех областях, позволяя общине выделять больше времени и энергии на просветительские мероприятия и рациональный досуг. Повседневная жизнь «возводилась в ранг науки» (с. 552). Некоторые коммуны разработали «научные» наблюдения за тем, как каждый человек проводит свое время. Другие коммуны взяли за правило сравнивать свои данные со средними показателями по стране, опубликованными в прессе. Они соперничали за повышение среднего уровня чистоты или гигиены, например принимая ванну или занимаясь уборкой чаще, чем обычные граждане.
«Догоняющая» индустриализация 1930-х годов («пятилетка в четыре года») основывалась на «концепции времени как линейного и прогрессивного – в соответствии с концепциями Просвещения об истории, которая прерывается и ускоряется героическими моментами человеческой деятельности» (с. 555). Такая «борьба со временем» подпитывалась желанием быстро и решительно преодолеть пресловутую «российскую отсталость». Городские коммуны в конечном счете прекратили свое существование при Сталине, сформировав при этом многие аспекты советской повседневности в последующие десятилетия.
И. К. БогомоловДж. Д. Уайт
Лев Троцкий и советская историография русской революции (1918–1931)
(Реферат)
White J. D. Leon Trotsky and Soviet historiography of the Russian Revolution (1918–1931) // Revolutionary Russia. – 2021. – N 2. – P. 276–295.
Статья Дж. Уайта, преподавателя истории России и Восточной Европы в Университете Глазго (Великобритания), посвящена развитию раннесоветской историографии Октябрьской революции через призму трудов Л. Д. Троцкого. Рассмотрены 1918–1931 гг. – от первой годовщины Октября и до появления письма И. В. Сталина в газету «Пролетарская революция» в октябре 1931 г. Как отмечает автор, «именно Троцкий заложил основы советской историографии российской революции», начав работу над ее историей еще в период переговоров в Брест-Литовске. Брошюра «История русской революции до Брест-Литовска» в итоге осталась в тени более поздней «Истории русской революции» Троцкого, но тем не менее сыграла в дальнейшем значительную роль. Сам Троцкий отмечал, что главная цель брошюры – представить Октябрьскую революцию таким образом, чтобы побудить рабочих Германии и Австро-Венгрии последовать примеру русских в свержении своих капиталистических правительств (с. 277). Для этого он должен был опровергнуть обвинения К. Каутского и других умеренных социалистов в том, что большевики нарушили демократические принципы, разогнав Учредительное собрание, и отказались договариваться с другими социалистами. Брошюра Троцкого должна была показать, что большевики не совершали государственного переворота за спиной рабочего класса России, что они не устанавливали партийную диктатуру и сделали все возможное, чтобы привлечь все социалистические партии в новое правительство.
События с февраля по осень 1917 г. в брошюре замалчиваются, и реальной отправной точкой рассказа Троцкого являются последствия Корниловского мятежа. Самому дню 25 октября 1917 г. не придается особого значения, он рассматривается как часть цикла, включавшего неудачные переговоры, которые большевики вели с меньшевиками и социалистами-революционерами после этой даты. Довольно обширный отчет о попытках большевиков сформировать коалиционное правительство был призван показать, что переговоры провалились не из-за отсутствия воли со стороны большевиков, а из-за непримиримости и предательства меньшевиков и эсеров. Троцкий подчеркивает, что партия большевиков получила государственную власть не потому, что она была эффективна в организации вооруженного восстания, а благодаря широкой народной поддержке. Его главный аргумент заключается в том, что большевики пришли бы к власти вполне законно путем выборов, если бы им позволили это сделать их оппоненты. Именно действия последних вынудили большевиков «подвергнуть себя обвинениям в том, что они намеревались сорвать демократический процесс и захватить власть путем восстания» (с. 277).
Брошюра «История русской революции до Брест-Литовска» имела большое политическое значение. По словам Уайта, она «подчеркивает идеологическую важность Октябрьской революции: именно от того, как произошло это событие, зависела легитимность советского режима. Это соображение продолжало действовать на протяжении всей советской эпохи и отличало историю Октябрьской революции от остальной российской истории» (с. 278). В первые годы советской власти этой парадигме написания истории Октября следовало и большинство других ведущих работ. В качестве примера Уайт приводит книгу Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», опубликованную в 1919 г. Рид, подобно Троцкому, рассматривал события 25 октября как часть «длительного процесса передачи власти советам, а не как решающий день, в который большевики захватили власть». Этот подход подчеркивался и самим названием книги (с. 278).
К 1920 г. ситуация на фронтах Гражданской войны изменилась в пользу Советской России. Большевистский режим «больше не чувствовал себя в обороне и был готов перенести революцию в Западную Европу». Более того, большевики «верили, что они имеют право на преобладание в Коминтерне, потому что они и только они доказали, что знают, как совершить успешную революцию» (с. 279). Эти изменения влекли за собой и новую интерпретацию Октябрьской революции: инициатива в Октябре принадлежала не рабочим (на что указывали Троцкий и Рид), а партии большевиков, которая благодаря своему теоретическому и организационному опыту возглавила движение трудящихся, свергла капиталистическую систему и установила диктатуру пролетариата. Фактически она добилась того, к чему стремилась каждая социалистическая партия, и тем самым стала примером для всех. На этом постулате, пишет Уайт, основывалась «ленинская интерпретация Октябрьской революции», доказывавшая, что успех был обусловлен политическим и организационным опытом большевиков. Большевизм заключался в «строжайшей централизации и железной дисциплине», возник на «гранитном теоретическом фундаменте» марксизма и прошел через пятнадцатилетнюю (1903–1917) историю (с. 279).
Уайт подчеркивает, что ленинская интерпретация Октября «не была подкреплена никакими историческими работами, опубликованными к тому времени» (с. 279), но для Ленина было важнее ее обнародование и выведение на официальный уровень. Это видно из дискуссий Ленина с М. Н. Покровским и В. В. Адоратским о создании организации, занимающейся сбором и распространением материалов по истории партии большевиков и Октябрьской революции, чем в итоге стала Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарт). Хотя Покровский считал более правильным рассматривать историю революции отдельно от истории партии, Ленин «настаивал на том, чтобы обе функции были возложены на одну и ту же организацию, таким образом, встроив в саму ее структуру идею о том, что партия большевиков ответственна за успех первой пролетарской революции» (с. 279). Создание Истпарта «привело к выделению области особого идеологического значения и выведению ее из сферы академического исторического изучения», а сотрудники Истпарта «были выбраны не за их историческую ученость, а за их политическую надежность» (с. 277). При этом остальная часть российской истории, включая социальные и экономические условия, приведшие к революции 1917 г., была оставлена для научного исследования.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Подробнее см.: Богомолов И. К. Великая российская революция в современной зарубежной историографии // Российская история. – 2021. – № 5. – С. 114–131.


