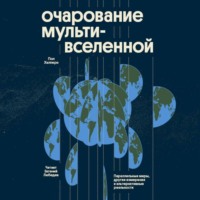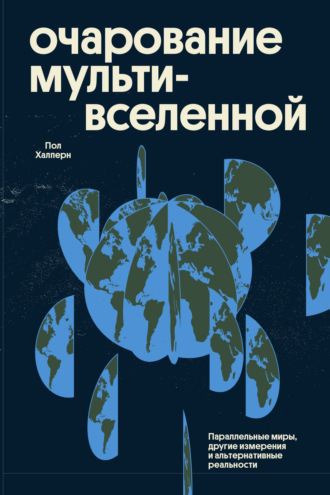
Полная версия
Очарование мультивселенной. Параллельные миры, другие измерения и альтернативные реальности
В общей теории относительности Эйнштейн объяснил гравитацию как искривление пространства-времени в присутствии материи и энергии. Это искривление происходит вдоль обычно недоступного дополнительного измерения подобно тому, как мы обычно путешествуем вдоль поверхности сферической Земли и редко – в направлении ее недр[10].
Но, что бы ни говорила теория о неприступности дополнительного измерения, само его наличие наводит на мысли о потайных ходах и скрытых коротких путях. Сам Эйнштейн с одним из своих сотрудников исследовал такие возможности, а в середине 1950‐х годов Джон Уилер ввел понятие кротовых нор – своеобразных тоннелей в пространстве, соединяющих удаленные друг от друга области. В конце 1980‐х годов ученик Уилера, Кип Торн, продолжил развивать эту концепцию, изучив вопрос о проходимых кротовых норах, по которым могли бы перемещаться астронавты. Кротовые норы могут соединять две удаленные друг от друга части пространства, связывать разные эпохи во времени или даже соединяться с областями пространства-времени, которые в противном случае были бы полностью недоступны. В 2014 году режиссер Кристофер Нолан обыграл эту идею в фильме «Интерстеллар», в создании которого Торн участвовал как научный консультант и сопродюсер.
Теоретически через кротовые норы можно отправиться в параллельные Вселенные, как предполагает один из вариантов теории мультивселенной, где пространства всех Вселенных связаны с нашей, либо же путешествовать в прошлое и менять ход истории, порождая еще один вариант мультивселенной с альтернативными реальностями. Например, путешественник, который отправился бы в прошлое и по неосторожности помешал бы Франклину Рузвельту стать президентом, мог бы оказаться в альтернативной версии реальности, где во Второй мировой войне державы Оси победили союзников. Сценарии путешествий во времени, конечно, остаются весьма надуманными (и, вероятно, даже невозможными в реальности), но обсуждаются на страницах серьезных научных журналов.
Дополнительные измерения привлекли внимание физиков еще и по другой причине: они открывают возможность объединить все природные силы, включая гравитацию и другие взаимодействия, в единую математическую систему. Всего через несколько лет после того, как Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, Теодор Калуца, молодой преподаватель математики, прислал ему работу, в которой предлагал способ, добавив в теорию еще одно измерение, включить в нее наряду с гравитацией электромагнетизм – вторую известную на тот момент фундаментальную физическую силу. Некоторое время спустя Оскар Клейн независимо разработал аналогичную пятимерную модель, которая хорошо сочеталась с квантовой физикой. Поэтому предложения по объединению, включающие дополнительные измерения, иногда называют теориями Калуцы – Клейна. Несмотря на свое прежнее недоверие к дополнительным размерностям, Эйнштейн вместе с несколькими научными сотрудниками работал над собственными вариантами пятимерной единой теории поля, но в 1943 году отказался от этого подхода и провел последние годы жизни в поисках других моделей объединения.
И снова вспоминается критика Бора в адрес Паули. Объединение в пяти измерениях – слишком безумная или недостаточно безумная идея? К 1970–1980‐м годам физики осознали, что им необходимо расширять горизонты. Их внимание привлекли еще два вида фундаментальных сил – сильное и слабое ядерные взаимодействия. Чтобы охватить их наряду с гравитацией и электромагнетизмом, пришлось обратиться к еще более многомерным теориям. Так появились модели супергравитации с одиннадцатью и суперструнные модели с десятью измерениями. Ученые пришли к выводу: необходимо добавить больше измерений, чтобы включить в теорию все четыре силы и при этом сохранить математическую строгость (и сократить некоторые сомнительные вклады, встречающиеся в моделях с меньшим числом измерений). Всего за несколько десятилетий идея многомерности в глазах сообщества физиков-теоретиков прошла путь от почти смехотворной до практически незаменимой.
В теории суперструн, как и в теории струн в целом, точечные частицы на фундаментальном уровне заменяются вибрирующими энергетическими нитями. Приставка «супер-» относится к гипотетическому свойству субатомного мира, называемому суперсимметрией, за счет которой при чрезвычайно высоких энергиях составляющие материи могут становиться носителями силы, и наоборот. В 1990‐х годах благодаря синтезу различных моделей под общим названием М-теория в эту концепцию были добавлены вибрирующие мембраны.
Очевидно, что, несмотря на теоретические изыски, обычное пространство остается трехмерным, а традиционное пространство-время – четырехмерным. Поэтому в теории струн и М-теории дополнительные измерения обычно сворачиваются в крошечные клубки или узлы. Представьте себе, что вы идете по такому свернутому дополнительному измерению и, не успев никуда попасть, оказываетесь там же, откуда начали – своего рода пространственный день сурка. Эти свернутые пространства настолько малы – на много порядков меньше масштабов, с которыми мы имеем дело в коллайдерах элементарных частиц, – что их невозможно наблюдать. По оценкам исследователей, оказалось, что дополнительные измерения можно свернуть примерно 10500 (500 нулей после единицы) способами, каждому из которых соответствует своя Вселенная. Вместо того чтобы прийти к однозначному представлению о том, как все фундаментальные взаимодействия вытекают из математических соотношений в одиннадцатимерном пространстве, теория струн и М-теория породили обескураживающее разнообразие. Не нашлось еще ясного математического приема, который отсеял бы все эти варианты, оставив одну-единственную теорию. Следовательно, множество возможных конфигураций приводит к появлению еще одной разновидности мультивселенной, называемой струнным ландшафтом. Он состоит из всех возможных Вселенных, обладающих различными физическими свойствами, которые обусловлены мириадами способов скручивания дополнительных измерений. И одна из этих Вселенных, как надеются теоретики, – наша.
Физикам-теоретикам понадобилось чуть больше столетия, чтобы пройти путь от неохотного принятия времени в качестве четвертого измерения для более изящной формулировки теории относительности, до месива сценариев теории струн в десяти или одиннадцати измерениях без особых надежд на упрощение. В то время как одни исследователи возмущены нынешним запутанным положением дел, другие признают, что теория струн выглядит единственным жизнеспособным путем к объединению, учитывая прошлые неудачи с подходами, основанными на частицах[11].
Каким бы странным ни казалось такое большое число измерений, физики постоянно ведут квантовые расчеты в абстрактных гильбертовых пространствах неограниченной размерности. Ключевое отличие состоит в том, что измерения, выполняемые над величинами в гильбертовом пространстве, как ожидают физики (в согласии с копенгагенской интерпретацией или по иным причинам), в конечном итоге дают результаты, воспринимаемые в пространстве с меньшей размерностью. В случае струнного ландшафта процесс сужения спектра возможностей до нашей собственной осязаемой реальности выглядит гораздо менее определенным. Хотя теория струн основана на поваренной книге вековой давности, которая включает объединенное пространство-время Минковского, геометрические соотношения общей теории относительности, пятимерную теорию Калуцы – Клейна и математические преобразования, применяемые к квантовым состояниям в гильбертовом пространстве, в настоящее время в ней нет рецепта объединения. Она лишь позволяет почувствовать вкус того, что когда-нибудь может получиться.
Ландшафты и грезы
Если в физике понятие мультивселенной появилось относительно недавно, то мысленное конструирование альтернативных миров – занятие древнее. Плетение историй – привычное для нас дело. Во сне разум автоматически создает странные видéния событий, которые на самом деле никогда не происходили или по крайней мере происходили по-другому. Успешное планирование часто предполагает мысленное взвешивание альтернативных сценариев и выделение оптимального. Гроссмейстеры в шахматах на много ходов вперед продумывают многочисленные цепочки возможных событий и ответных решений, прежде чем двинуть с места хоть пешку.
Некоторые философы и богословы, пытаясь постичь божественный промысел, представляли себе Творца размышляющим над каждым шагом творения, прежде чем воплотить его в жизнь. Например, Готфрид Лейбниц предположил, что Бог – не только всевидящий и всезнающий в отношении реального космоса, но и всеведущий в отношении строения и развития всех мыслимых реальностей. Из этого множества Он выбрал лучший из всех возможных миров. Гениальный сатирик Вольтер безжалостно высмеял эту идею, воплотив ее в образе хронического сангвиника Панглосса в «Кандиде», который из любой трагедии извлекает самые радужные выводы. Остроумие этой сатиры основано на нашей склонности видеть темную сторону истории и считать, что человечеству не повезло. Однако в сравнении со всеми возможными космическими исходами, нам по крайней мере посчастливилось оказаться на процветающей планете с условиями, необходимыми для поддержания разумной жизни.
Мультивселенные, как мы видим, не обязательно представляют расширения осязаемого физического мира. Их можно разделить на две категории: те, которые расширяют Вселенную в физическом плане, например предполагая существование областей, недоступных для наблюдения, и те, что существуют в области гипотетических возможностей и служат в основном для сравнения. То есть одни – это ландшафты, а другие – сказочные грезы.
Современная физика, пытаясь ответить на вопросы «Что есть реальность?» и «Почему реальность обладает определенными свойствами?», использует оба подхода – физические расширения и нереализованные альтернативы. Оба варианта возникают в общей теории относительности Эйнштейна, которая включает в себя множество решений конечного или бесконечного размера для геометрии Вселенной. Например, пространство может быть положительно искривленным, подобно поверхности сферы, отрицательно искривленным, как седло, или плоским, идеально прямым во всех трех измерениях, как коробка, растянутая до бесконечности во всех направлениях. Каждую из этих (и не только этих) возможностей можно согласовать с уравнениями общей теории относительности.
В отличие от ньютоновской физики, которая предполагает единую, неизменную сетку координат, называемую абсолютным пространством, где небесные тела движутся на фоне единой однородной шкалы, называемой абсолютным временем, общая теория относительности обладает удивительной гибкостью. Тем не менее, предложив эту теорию, Эйнштейн надеялся найти физические основания, гарантирующие для космоса единственное конечное стабильное решение.
К большому его разочарованию, первое разработанное им решение, обладающее геометрией трехмерной сферы, оказалось неустойчивым. Пытаясь исправить ситуацию, он добавил в свою теорию новое стабилизирующее слагаемое, названное космологической постоянной, которая противостоит сжимающему действию гравитации. Это дало ему искомый стабильный результат.
Когда благодаря телескопическим исследованиям появились убедительные доказательства расширения Вселенной, Эйнштейн поменял свою позицию. Вместе с голландским ученым Виллемом де Ситтером в 1932 году он предложил модель Вселенной, которая бесконечна по протяженности, неограниченно расширяется и имеет плоскую геометрию. Создавая эту модель, которую теперь называют Вселенной Эйнштейна – де Ситтера, они приравняли космологическую постоянную к нулю, убрав ее из теории, которая больше не нуждалась в стабилизирующем факторе. Эта модель послужила концептуальной основой того, что позже стало известно как теория Большого взрыва.
Возьмите котел научного любопытства, наполните его космологическими моделями, бесконечно простирающимися во всех направлениях, смешайте с бесчисленным множеством альтернативных решений, и сварится суп из всех возможных композиций – ландшафтов и грез. Например, один из таких ландшафтов обусловлен конечностью скорости света, ограничивающей то, что мы можем наблюдать. За пределами зоны, откуда до нас могут дойти хоть какие-то сигналы, почти наверняка находятся участки, которые ускользают от нашего внимания. В результате гипотеза мультивселенной становится логической необходимостью, поскольку почти невозможно поверить, будто Вселенная просто обрывается за горизонтом наблюдаемости.
Если формулировать более абстрактно, то в теоретическом пространстве параметров космоса, таких как кривизна, гладкость, космологическая постоянная и так далее, существует огромное множество разных возможностей, которые составляют мультивселенную более умозрительного характера. Их можно либо отбросить как чисто математические модели, либо всерьез рассматривать как физические альтернативы – в зависимости от предпочтений теоретиков. Другими словами, мультивселенную, состоящую из альтернативных решений общей теории относительности, можно воспринимать в качестве своего рода интеллектуальной грезы, которая имеет мало общего с физикой, а можно – в качестве набора реальных конкурентов из ландшафта физических вариантов. Выбор определяется личными предпочтениями теоретиков.
Стремясь создать квантовую теорию гравитации, Уилер предпочитал рассматривать альтернативные решения в общей теории относительности как составляющие шипучей «геометрической пены», возникающей при чрезвычайно высоких энергиях. Из этой пены каким-то образом возникла наша простая космология в качестве оптимального пути через абстрактное пространство параметров, которое, согласно фейнмановскому методу суммирования по историям, представляет собой классический (ньютоновский) предел физики. Идея Уилера звучала захватывающе, но так и не получила широкого признания из-за невозможности достичь столь высоких энергий в рамках эксперимента, а также из-за колоссальных математических трудностей, связанных с построением жизнеспособного квантового описания общей теории относительности (это те самые трудности, которые в конечном счете привели многих физиков к теории струн).
Не говоря уже о квантовой физике, даже в стандартной космологии возникают вопросы о том, как Вселенная оказалась такой упорядоченной. Плоская геометрия и изотропное (одинаковое по всем направлениям) расширение очень хорошо подходят к идеям Эйнштейна и де Ситтера. Однако ускоренное расширение Вселенной требует, чтобы космологическая постоянная не была строго равна нулю, а имела очень маленькое положительное значение. «Почему она так мала, но все же не нулевая?» – задаются вопросом теоретики. Среди других космических странностей – чрезвычайно низкое значение энтропии, или меры беспорядка, наблюдаемой Вселенной; если бы не это, вначале в ней было бы мало или совсем не было бы энергии для создания звезд и других замечательных космических объектов, которые мы видим. Наконец, многие фундаментальные постоянные (например, задающие силу и радиус действия электромагнетизма в сравнении с другими взаимодействиями) кажутся на удивление благоприятными для возникновения галактик, звезд и планет.
В 1970 году, надеясь объяснить космические условия, исключительно благоприятные для появления разумных наблюдателей, Брэндон Картер, вдохновленный Уилером, предложил несколько вариантов гипотезы, которую он назвал антропным принципом. Это представление о том, что условия в нашей области пространства-времени и/или в самой Вселенной должны быть такими, чтобы в ней могли появиться люди (или другие разумные существа). Самая далекоидущая версия, «сильный антропный принцип», опирается на концепцию мультивселенной для объяснения благоприятных условий в нашей Вселенной. В разных Вселенных космологические параметры и условия могут сильно отличаться друг от друга. Наша Вселенная выделяется тем, что способна порождать стабильные звезды с планетарными системами, которые поддерживают физические и химические процессы, необходимые для процветания разумной жизни. Таким образом, само наше присутствие в качестве сознательных наблюдателей гарантирует, что мы находимся в таком космическом оазисе среди пустыни альтернатив.
Спустя десятилетия гипотезу Картера применили к струнному ландшафту в попытке сузить мириады его возможностей. В этом случае главным критерием отбора становится малое, но не нулевое значение космологической постоянной, вызывающее как раз такое расширение пространства, которое способствует появлению обитаемых планет, подобных нашей. Большая космологическая постоянная мешала бы гравитации сжимать облака материи и препятствовала бы образованию галактик, звезд и планет. Без стабильных планет и сияющих звезд жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, никогда не смогла бы зародиться. Сам факт нашего существования исключает такие безжизненные Вселенные с больши´ми космологическими постоянными, а также конфигурации теории струн, которые приводят к столь неблагоприятным моделям.
Однако в 1970‐е годы, когда Картер опубликовал свою работу, большинство физиков все еще надеялись объяснить значения физических параметров расчетами, а не философскими рассуждениями. Они ожидали, что новых открытий в науке о Вселенной в конечном счете окажется достаточно, чтобы рационально объяснить все ее свойства.
Картер в своей статье признал, что лучше по возможности использовать чисто механистический подход и не вписывать человечество в космологию. Некоторые параметры – например размер и плотность водородного газового облака, достаточные, чтобы под действием гравитации оно сжалось в светящийся звездный шар, – обеспечивают появление звезд в определенном диапазоне масс. Они попадают в категорию традиционных предсказаний, основанных исключительно на физических ограничениях. Вероятно, большинство теоретиков, читавших тогда статью Картера, были полностью согласны с таким прагматичным подходом.
Пузырьки, пузырьки, вы тусклы али ярки?
И словно оправдывая эти ожидания в конце 1970‐х – начале 1980‐х годов Алан Гут и другие ученые предложили вариацию теории Большого взрыва, призванную объяснить космический порядок без обращения к антропному принципу. Модель Гута, названная инфляционной, предполагает, что на очень раннем этапе своей истории Вселенная пережила чрезвычайно короткий период сверхбыстрого расширения. Точно так же, как быстрое растягивание простыни выравнивает ее складки, эпоха инфляции, как считают сторонники этой теории, помогла сгладить все неоднородности в ранней Вселенной. Такой период сглаживания помогает объяснить, почему, несмотря на огромные расстояния, мы видим в разных направлениях неба примерно одно и то же. Также сглаживанием во время всплеска инфляции объясняется и то, почему Вселенная кажется пространственно плоской, а не отрицательно или положительно искривленной.
Странным образом, вскоре после того как Алан Гут и другие представили идею космической инфляции, Пол Стейнхардт, Андрей Линде и Александр Виленкин, каждый из которых независимо разработал свой вариант теории, указали: если наблюдаемая Вселенная началась с инфляции, то такой процесс, вероятно, будет запускаться и в других областях космоса, приводя к возникновению других инфляционных пузырей. Фактически первичный космос представлял бы собой кипящую пену из множества расширяющихся Вселенных. В некоторых местах инфляция могла бы продолжаться бесконечно. Это стали называть вечной инфляцией. При этом сегодня альтернативные Вселенные для нас недоступны, так как находятся далеко за пределами наблюдаемого мира.
Многие сторонники вечной инфляции вновь обратились к антропному принципу, чтобы объяснить, почему наша Вселенная именно такая, какая есть. Иронично, что теория, изначально предназначенная для динамического разглаживания наблюдаемой Вселенной (за счет непосредственно воздействующих на нее физических процессов) без использования принципа отбора, теперь, похоже, нуждается в нем, чтобы объяснить, почему мы не оказались в любой из множества других конкурирующих Вселенных с менее благоприятными свойствами.
В 2010 году исследователи Хиранья Пейрис и Мэтью Джонсон высказали предположение, что, хоть такие параллельные миры в настоящее время и недосягаемы, могли сохраниться отпечатки ранних столкновений между их формирующимися пузырями и пузырем нашей наблюдаемой Вселенной. Они предложили проанализировать реликтовое космическое излучение в поисках таких «шрамов». Их исследовательская группа нашла несколько кандидатов на основе данных, собранных спутником Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), но ни один из этих сигналов не вышел за пределы статистической погрешности. С тех пор появились новые идеи, как можно найти следы таких столкновений пузырей по данным о поляризации (направлению, в котором закручиваются фотоны) реликтового фона. Эти исследования ждут своего часа. Таким образом, проверка гипотезы вечной инфляции – одной из версий мультивселенной – все еще возможна, хоть и вовсе не гарантирована.
В отсутствие даже косвенных доказательств в пользу той или иной гипотезы мультивселенной (от ММИ до струнного ландшафта и вечной инфляции) все они продолжают вызывать резкую критику со стороны тех, кто – справедливо или нет – настаивает, что все, не имеющее перспективы экспериментальной проверки, не относится к настоящей науке. Призывы энтузиастов мультивселенной дождаться исчерпывающих объяснений природного мира, которые могут появиться в будущем, а не отвергать их с порога, не помогают скептикам справиться с беспокойством. Между теми, кто готов включить в свои теории недоступные области космоса, и теми, кто считает это полным безрассудством, возник глубокий раскол.
Чтобы глубже его прочувствовать, обратите внимание на язвительные слова писателя Джона Хоргана:
Наука страдает, когда выдающиеся мыслители пропагандируют идеи, которые не могут быть проверены, а значит, – уж простите – не относятся к науке. Более того, в то время, когда наш мир, реальный мир, сталкивается с серьезными проблемами, рассуждения о мультивселенных кажутся мне эскапизмом сродни фантазиям миллиардеров о колонизации Марса. Разве ученые не должны заниматься чем-то более продуктивным?[12]
Эти дебаты вышли на первый план в 2017 году, когда Стейнхардт совместно с физиками Анной Иджас и Абрахамом «Ави» Лёбом всколыхнули научный мир, опубликовав в журнале Scientific American резкую критику представления об эпохе инфляции. Учитывая, что Стейнхардт был одним из основоположников инфляционной теории, эта критика оказалась особенно шокирующей. Исследователи утверждали, что одна из первоначальных целей теории инфляции – объяснить, почему наша наблюдаемая Вселенная выглядит так, как она выглядит, – больше не выполняется. На самом деле, утверждали они, вывод теории инфляции о вероятном существовании других Вселенных-пузырей означает, что наша Вселенная не уникальна, и шансы, что она обладает особыми свойствами, сводятся к нулю. Авторы подчеркивали: «Поскольку каждая область может обладать любыми мыслимыми физическими свойствами, теория мультивселенной не объясняет, почему наша Вселенная обладает теми особыми характеристиками, которые мы наблюдаем. Они становятся чисто случайными особенностями нашей конкретной области»[13].
Стейнхардт более подробно изложил свои критические соображения в 2020 году в интервью:
Проблема с мультивселенной заключается в том, что она предсказывает существование областей пространства, в которых реализуются буквально все варианты развития событий, допускаемые законами физики. Цель инфляции состояла в том, чтобы объяснить, среди прочего, почему Вселенная пространственно плоская. Но в мультивселенной существует бесконечное число областей – как [отрицательно искривленных], так и [положительно искривленных][14].
Выступая с критикой вечной инфляции, Стейнхардт держал в голове другой тип космологической модели – с отскоками вместо взрыва и пузырей. В начале 2000‐х годов он вместе с несколькими другими физиками, включая Нила Турока, Джастина Хури и Бёрта Оврута, разработал альтернативу инфляционной теории, которая в разных своих воплощениях называлась экпиротической или циклической Вселенной. Эта теория устраняла необходимость в пространственной мультивселенной, предполагая, что повторяющиеся катаклизмы могут сглаживать Вселенную без вмешательства инфляции. Однако эта теория работала только при наличии как минимум еще одной параллельной Вселенной, которая отделена от нас пятым измерением и периодически сталкивается с нашей. Без мультивселенной и тут обойтись не удалось, хоть эта мультивселенная и размещается не в пространстве, а в гиперпространстве.
Более того, концепция циклов во времени во многом сродни представлениям о мультивселенной. Неограниченность череды космических эпох допускает, что все события на Земле когда-нибудь повторятся. Через триллионы лет случайно воссозданная версия вас может читать копию этой самой страницы.
Понятие бесконечного повторения не назовешь новацией: оно неоднократно возникало в истории идей. Мы увидим, как философ XIX века Фридрих Ницше был одержим мыслью, что вся его жизнь, к лучшему или худшему, будет повторяться снова и снова в цикле вечного возвращения.