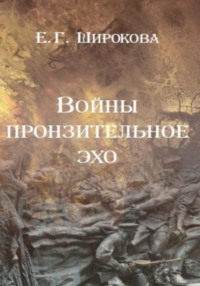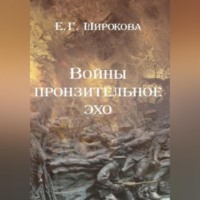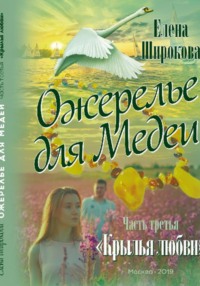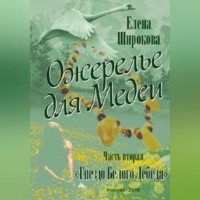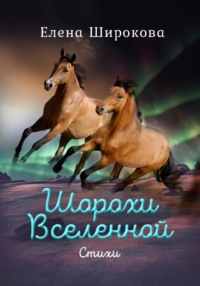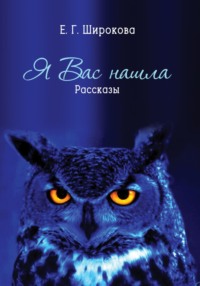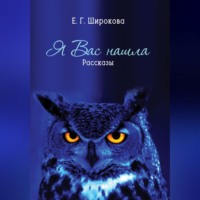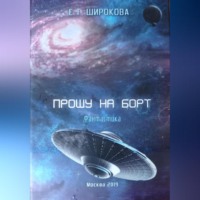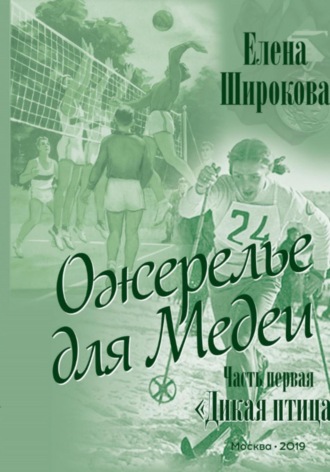
Полная версия
Ожерелье для Медеи. Часть первая. Дикая Птица

Елена Широкова
Ожерелье для Медеи. Часть первая. Дикая Птица
Пролог.
Санкт-Петербург – заливают дожди. В городе хмуро и слякотно. В бедно обставленной комнате подвального этажа с двумя окнами, выходящими прямо на мостовую, и почти не дающими света – широкий портняжный стол. Он занимает четвертую часть помещения. На керамической подставке, пышущий жаром углей, утюг. В углу – ворох старых вещей. У окна швейная машинка «Зингер». Стол для обеда. Несколько стульев. За цветными занавесками, что по обе стороны комнаты – полати для сна и отдыха.
Жилец подвального помещения, «вечно» подкашливающий, Сергей Максимов – отец четверых детей сухощавый, невысокого роста – скорняк.
Его заказчики – ремесленники и рабочие. Из нового они шили редко. В основном просили перелицевать.
Распоротые вещи источают много пыли. Пыль можно найти везде: на столе и окнах; она висит в воздухе, оседает в легких мастера и является причиной его чахотки.
– Аннушка, – окликнул маленькую дочурку отец, отвлекаясь от кроя. – Примерь ботиночки. Вера вчера принесла.
Он сажает малышку на колени и примеряет.
Она трется носом о рукав рубашки отца и внимательно наблюдает, как тот шнурует обувку.
– Ну, вот и хорошо. Отец вдруг зашелся от кашля, погладил дочь по головке: – Иди, родим, погуляй.
Отец добрый и ласковый. Он никогда не раздражается, и девочка не понимает, почему он, подозвав ее, тут же отгоняет от себя.
Ей – маленькому человечку уютно в теплых руках отца и не хочется слезать с его колен…
Очутившись на полу, малышка задумалась:
– Чем заняться? – Ведь у нее нет игрушек. Лучшее, что могло бы ее увлечь – это горсть семечек или орешков, которые ей приносила с рынка старшая сестра Катя.
Но она еще не вернулась.
Девочка пододвинула стул и с его помощью залезла на стол, где лежал крой.
– Фу, как плохо пахнут тряпки…
Отец снова зашелся в кашле. Мать, чинившая белье, тревожно смотрит в их сторону… Сергею давно нужна смена обстановки – свежий воздух, тепло, молоко. Но где это все взять?
И сама она не здорова, но скрывает это от мужа.
Продолжает работать: с 6 утра до 11 – на фабрике; потом, помогает мужу. В субботу и воскресенье обстирывает знатных господ. Внимания на маленькую дочку —не остается.
Скрипнула дверь… – Катя! – обрадовалась малышка. Но это оказалась Вера – старшая сестра. Она тоже работает на фабрике. Ее рабочий день делится на две половины – с шести утра до одиннадцати и с тринадцати до шестнадцати часов. Сейчас она пришла на двухчасовой обеденный перерыв.
Мать отложила белье в сторону и стала собирать на стол. Следом за старшей сестрой вошла и Катя с полной корзинкой продуктов: картошка, капуста, лук, мясо…
Разница между старшими сестрами три года. Вера совсем взрослая со строгим взглядом умных темных глаз. Она распоряжается домашним бюджетом, планирует покупки и все время думает, как его растянуть на все необходимое.
– «Вера уже невеста и скоро улетит от нас», – часто говорит мама.
Обед готовит Катя; она же делает покупки на рынке по списку Веры, не забывая про стаканчик орешков для маленькой сестренки.
Есть еще сын Миша. Но сейчас он в ремесленном училище до пяти вечера. Учится на мастера модельного кроя и шиться. Учителя признают у него талант.
Сейчас сестры вместе займутся домашними делами: Катя обедом, а Вера поможет матери с уборкой в доме.
Среди них – Анечке всегда веселее.
У нее тоже есть обязанность – подавать полотенце старшим, когда они моют руки.
Семья за столом. Мать наливает в деревянные плошки наваристую похлебку из куриных потрошков, режет хлеб и ставит блюдце, на котором лежит белая головка сахара и щипцы. После первого можно попить чаю с кусочком сахара…
Отец креститься и просит благословения у Господа.
Едят молча, степенно.
Катя следит, чтобы Анечка не вертелась по сторонам, ела правильно и не оставляла на столе крошек.
Пока Катя убирает со стола, отец может немного полежать. Его мысли тревожны. Он понимает, что в подвале его здоровье не поправить и думает, что надо сделать, чтобы не оставить семью без кормильца. Отдохнув, зовет Катю присесть рядом и написать письмо родным в деревню.
Письмо короткое. После приветствия и пожеланий здоровья Сергей просит старшего брата посодействовать переезду семьи в деревню по состоянию его здоровья.
– Отнеси дочка письмо на почту, – глухо говорит отец Кате и приступает к работе.
О жизни в деревне Аня мало, что помнит. Ни отцу, ни матери деревня не принесла здоровья. Оба умерли в один год, успев отдать замуж старших сестер: Веру за сына кулака из соседней деревни, красавицу Катю, по большой любви, за местного батрака.
Подростка Аню забрал в Санкт-Петербург брат Миша, ставший к тому времени, известным модным портным города. Он пристроил ее в услужение к жене начальника железнодорожного вокзала.
Революционные события в Петрограде изменили судьбу юной Анны.
Ее господа сбежали за границу. Брата Мишу призвали в армию. На бездомную девочку – подростка на улице наткнулся революционный патруль…
Совершенно случайно она оказалась в здании Петроградского Совета большевиков, среди сотрудников газеты «Правда».
Особое участие к ней проявила секретарь – латышка Марта Абеле, ставшая ее опекуном и наставником по жизни. Она устроила Анну на галошный завод, где та -прошла путь от простой работницы до мастера цеха, а затем и председателя профкома. Завод предоставил Анне комнату в Красном Селе.
В 29 лет она встретила свою судьбу – Григория, технолога Ленинградской кондитерской фабрики. Родители мужа имели свой дом в Лиговке.
От брака с ним родились мальчик и девочка. – Господи! – Как давно это было!
Война разъединила молодую семью. Их судьба была трагической:
Григорий погиб под Донецком, Анну с детьми немцы взяли в плен в пригороде Ленинграда и отправили по этапу в Германию. На границе с Эстонией произошла остановка из-за разразившегося тифа.
Затем, был концлагерь, побег, устроенной группой сопротивления в немецком лагере, партизанский отряд, скитания по хуторам, болотам и землянкам, восстановление советской власти на опустошенной немцами земле, голод, болезни… Анна – была активным участником всех этих процессов и, от свалившихся на нее лишений – серьезно больна сердцем.
Семья тихо шла к последней своей черте, если бы снова в ее жизнь не вмешался ангел – хранитель в лице Марты Витальевны Абеле, занимавшей на тот момент пост секретаря Псковского обкома партии. Она поместила тяжелобольных Анну и ее детей в госпиталь, решив, при первой возможности – забрать девочку к себе, поскольку была одинока. И, действительно, впоследствии сделала это, получив новое назначение в Ригу.
В это время, Медея, – так звали дочь Анны, закончила школу. О ее судьбе и пойдет речь, несмотря на то что ныне все это кажется в далеком прошлом.
Глава 1. Поближе к родственникам.
Будет неверно пройти мимо школьного периода нашей героини.
Война уходила на Запад. Сразу же после освобождения железно – дорожной станции Ямм от немцев, где оказалась семья Анны, поселковый Совет занялся организацией мирной жизни людей и учебой детей в школе.
Из учителей в поселке осталась только одна учительница начальных классов. Вот, ей-то и предстояло возглавить школу и тянуть на себе всю работу с детьми, невзирая на их возрастные различия.
Под школу отвели барак, ранее используемый для полевого госпиталя.
Его разделили на три части – классы; переложили полы, вставили стекла, поставили печки, повесили доску, отвели уголок для одежды…Еще одну печку поставили в общем коридоре. Рукомойник и туалет были на улице.
Ближайший к выходу класс отдали первоклашкам, возраст которых от семи до девяти лет; второе помещение закрепили за детьми от десяти до двенадцати, а в третьем – учились дети с двенадцати до четырнадцати лет.
Перед школой поставили турник, повесили канат для лазания, врыли столб –вертушку с тремя канатами, имеющими на конце петлю.
Продев одну ногу в петлю, можно было бегать кругами вокруг столба, толчком взлетать вверх и «парить». Это было самое притягательное для детей место на переменах.
Война «сгладила» возрастные особенности детей. Но осталось главное – все хотели учиться. Учительнице было трудней. Ей предстояла работа на опустошенной врагом территории с нуля; и по памяти – варьировать учебную программу в зависимости от возраста и развития учеников.
В крае, с отголосками еще идущей войны, не было никаких учебных программ.
Надежда Дмитриевна составляла план работы одновременно на три возрастные группы. Приходила в школу пораньше и писала на доске задание.
Принимала младшую группу. После объяснения материала, давала задание и уходила в следующий класс, где дети уже работали, считывая задание с доски. Тоже происходило и со старшей группой.
Таким образом, самостоятельность детей была основным принципом их обучения. Надежда Дмитриевна никого не отпускала домой, если у них были затруднения. Ученики платили ей любовью и уважением.
Учительница хорошо знала Медею. Та, еще год назад, стала крутиться у стен школы и буквально висела на окнах, не спуская глаз с доски, пока Надежда Дмитриевна однажды не вышла на улицу и не завела ее в класс.
– Сколько тебе лет? – Шесть, – тихим голосом соврала Медея. Шести ей еще не было. – Но я умею читать.
– И что мне с тобой делать?
– Можно я буду приходить в школу с братом?
– Хорошо. Но я разрешаю тебе уходить в любое время, если устанешь.
На следующей день Медея пришла в школу в новой юбочке и жакетике из серой бязи, которые мама сшила за одну ночь. В одной руке вместо портфеля она держала матерчатую сумочку, все из той же бязи, где лежал букварь, тетрадь и ручка, а в другой – несколько полевых цветков для учителя.
Медея оказалась прилежной и не требовала особого внимания. Но на уроках часто задавала неожиданные вопросы. Например, «Зачем считать сколько стоит хлеб и сухарики? – Давайте сразу – разрежем его на кусочки и съедим…»
Или: – «Зачем раскладывать конфеты по коробкам? Их лучше скушать» …
Надежда Дмитриевна не сердилась на девочку за отвлечение. Она понимала, что вопросы вызваны голодным состоянием ее желудка, и терпеливо объясняла связь между условностью и реалиями.
Когда Медею угощал конфетой друг Карлуша – сын секретаря обкома партии, она, пососав немного, вынимала конфету изо рта и несла в школу. Подходила к учителю со словами:
– «Надежда Дмитриевна, вот – попробуйте конфету. Очень вкусная». После ласкового отказа, давала по очереди – сосать драгоценное лакомство брату и девочке Гале, с которой подружилась год назад в госпитале, а теперь сидела за одной партой.
У девочки была хорошая память и голос. Она знала много стихов и песен. Пела по вдохновению, когда оставалась одна, убегая в лес, в поле или на речку.
Через три года построили новую двухэтажную школу на самом высоком месте, откуда открывалась вся панорама на поселок и речку Желча. Из Пскова прислали молодую учительницу русского языка и литературы.
Она стала классным руководителем Медеи.
Военком станции вызвал из Петрозаводска свою сестру – учителя по географии, а немецкий язык поручили вести женщине, работавшей в годы войны переводчице в немецкой комендатуре. Педагогический коллектив в школе увеличился до четырех человек, что позволило организовать занятость детей в течение всего дня.
После занятий, они, как правило, помогали взрослым в сельскохозяйственных работах: сажали картошку, пололи лен, копали свеклу, закладывали овощи в бурты, занимались расчисткой места для постройки Дома культуры, копали отводные канавки у дорог, благоустраивали школьную территорию.
В их ведении был уход за местом захоронения солдат и шефство над семьями, мужья и дети которых погибли на войне.
В школе создали кружки литературы, театра, рукоделия. Каждый месяц давали в поселке концерт художественной самодеятельности.
Медея училась в пятом классе, когда к ним из Подмосковья приехала сестра мамы – Катя. Ее муж погиб на фронте. Без отца осталось шесть детей. Старшая уже работала, еще одна – заканчивала техникум, двое учились в ремесленном училище и двое: мальчик и девочка –сверстники Медеи – еще ходили в школу.
Сестра приехала с целью – сманить Анну в родные края и каждый день своего пребывания закладывала ей эту мысль. – «Вместе будет легче…».
А чтобы сестра сжились с этой мыслью – попросила отпустить детей с ней на лето в деревню.
– «Они у тебя – светятся. А у меня коровка и куры. – Будут пить молочко и кушать яички. Глядишь, и поправятся».
Дети восприняли это предложение неохотно, и скорее всего, поездка не состоялась, если бы из поселка не исчез Борька – друг Медеи по играм.
Его неожиданно увезли в Петрозаводск, в день, когда девочка была на сборе клюквы. Это была ее с братом – обязательная работа. На вырученные деньги, мама покупала ботинки и спортивные шаровары.
– «Почему он уехал, не поставив меня в известность? – Он предал их дружбу!! – Медея замкнулась и потеряла интерес к событиям. Уговаривать на поездку к тете Кате ее не пришлось.
До станции Бологое ехали в кузове полуторки. Сильный ветел продувал насквозь легкую одежду. Медея простыла. Во время ожидания поезда, брат купил мороженое, что сыграло с девочкой злую шутку. Заболело горло.
Но пока были в пути – она никому об этом не сказала. Да, и не могла; вместо слов она сипела. Лечение началось только по приезду в деревню.
Речь вернулась, а вот колокольчик, который звенел и радовал окружающих, умолк навсегда. Дар петь – девочка потеряла.
Отношения с двоюродными братом и сестрой не складывались. Они сразу стали ревновать мать к «чужим». Та, действительно, окружила их заботой и вниманием, особенно – Медею. Если Коля сразу влился в коллектив мальчишек и особой заботы не требовал, то эта – ходила задумчивая, грустная и молчаливая…
На каникулы в деревню приехал сын тетки – Толик.
Катя обрадовалась – «Будет кому косить сено для коровы.
Часа в четыре утра, она брала ухват и шла к сараю, где под крышей сладко спал Толик, только что вернувшийся с ночных посиделок с местными девчатами.
– Вставай на покос, – тормошила сына ухватом Катя. А то роса сойдет…
Толик сопротивлялся, двигаясь в противоположный конец лаза. Но Катя ставила лестницу и ухват снова неприятно щекотал пятки парня. Он спускался на землю сонный и недовольный. Подходил к колодцу, умывался, пил молоко и с косой и граблями, растворялся в утреннем тумане.
Утром, за завтраком, как правило это были блины из картошки и повала, Катя спрашивала у детей: – «Кто понесет Толику еду?» – и всегда первой отзывалась Медея:
– Я пойду. А заодно – наберу ягод или грибов…
От дома в лес уходила натоптанная тропинка и она обязательно должна была вывести на поляны, где колхоз отводил покос травы для держателей домашней скотины.
Усталый Толик был рад приходу сестренки, еде, отдыху. Он кивал Медеи на грабли: – Повороши сено, а сам – быстро насытившись, тут же засыпал.
Возвращаясь обратно, Медея по привычке пыталась петь, но кроме грубых звуков ничего не выходило. Ей оставалось только слушать пение птиц и свирель кузнечиков.
Братья резвились в играх, а Медея помогала тете Кате по хозяйству: мыла корове вымя, поила телка, собирала для поросенка лебеду, «жарила» на заборе крынки. Снимала с вечернего удоя сливки и сбивала руками масло в трехлитровой банке…
Катя была рада такой помощнице. Она сама в деревне особо ни с кем не дружила. Времени свободного не было.
Шутка ли, шесть детей, скотинка и домашнее хозяйство! А с Медеей она делилась мыслями, рассказывала ей о своей жизни, о погибшем муже, о старших детях, дедушке и бабушке и обещала отвести на погост…
– Завтра праздник «Лужки», – сказала она накануне воскресного дня.
– А что за праздник, – поинтересовалась Медея.
– Это праздник лета, «налива» травы, время покоса и заготовки кормов для скотины. Те, у кого участки покоса далеко от деревни, уходят в лес на неделю, другую, пока не заготовят сена на всю зиму. Там же, в лесу – отваривают грибы.
– А тебе – спасибо за грибочки, сейчас я их поджарю. Своих сорванцов в лес никак не могу выгнать!
Никаких слов не понимают. На самом деле, все слова в адрес детей, при их непослушании, выливались в одно короткое предложение: – «Стык, твою мать!».
На вопрос Медеи, что это значит – тетя Катя пояснить не могла.
После разговора о деревенском празднике, Медея не приходила из леса без грибов. Однажды, вернувшись из очередного набега за грибами, она увидела в доме высокую ладную девушку. Это была старшая дочь тети —Полина. Она пришла к матери пешком из районного центра, где работала старшим бухгалтером в райисполкоме, с хорошими, как она выразилась, новостями.
– «Мама, я выхожу замуж, – веско сказала она.
Алеша – продавец. Он заканчивает строительство дома, и мы забираем вас из деревни! – Брат и сестра будут заканчивать школу в городе. Отпадет необходимость хлопотать о прописке, для их дальнейшей учебы…
Еще, я договорилась в райисполкоме о работе для тети Ани. А пожить, первое время, она сможет у нас. Так что – отпиши ей, а я отправлю письмо».
Глава 2. Взросление.
В конце августа тетя Катя объявила Медее, что они переезжают в город, а мама скоро к ним приедет. Полина уже записала ее и брата в шестой класс.
Все было очень неожиданно, но радость от переезда в город испытывали только тетя Катя и ее дети. Полина отвела Медею с братом в школу, где они старались проводить большую часть времени, оставаясь после занятий в библиотеке или на спортивной площадке. И только ближе к вечеру Медея бежала домой, зная, что тетя Катя нуждается в ее помощи.
Та – каждый день стирала, а полоскать белье надо было ходить на речку и делала это девочка.
Однажды, собирая лебеду для поросенка, Медея увидела на дороге худенькую женщину в цветном платье с сумкой. Она выглядела усталой, шла медленно, сверяя номера домов…
Что-то в ней было знакомое и удивительно родное!
Медея поставила корзинку с травой на землю и внимательно присмотрелась к приближающей фигурке. – Да это мама…
Она вскрикнула и бросилась навстречу: – Мама! – Мама!
– Слезы одновременно навернулись на глаза дочери и матери. Обе, не выпуская рук, опустились на обочину дороги и не стесняясь плакали от счастья, что снова вместе.
Полина показала, приехавшей тетке, спальное место в доме – проходная комната, где с одной стороны стояла кровать тети Кати с младшей дочкой – школьницей, а напротив кровать, где будет спать Медея с мамой.
Анна отдала Полине пять тысяч рублей – половину своих сбережений от продажи имущества, зарплаты и пособия, которое ей собрал коллектив. Ее провожали очень тепло, но до этого -долго уговаривали:
– «Не надо тебе уезжать. Здесь мы выжили и сроднились. Жизнь в поселке быстро налаживается…»
– Но Анна не изменила своего решения, о чем позже – сильно пожалеет.
А сейчас, она шла в исполком относительно места работы, о котором ей отписала Полина.
– Видите ли, – ответили ей. – Мы действительно, готовы предоставить вам работу. Дело за малым – получите прописку.
Пропиской с начальником милиции занимался муж Полины – Алексей. К нему, тот заходил каждый день за бутылкой водки и двумя бутылками пива. Долг за напитки посредник предъявлял Анне. Но прописки все не было.
Начальник милиции тянул решение вопроса, а потом откровенно потребовал от Алексея пять тысяч.
У Анны было безвыходное положение, и она отдала эту сумму. У нее – безработной и, фактически бездомной – осталось всего две тысячи рублей, половину из которых потребовала Полина за проживание в текущем месяце.
Прописку сделали, но за это время, обещанная Анне, должность была занята другим человеком.
К тому же, странно повел себя и муж Полины. Он стал приходить с работы недовольный, под хмельком, и ворчал на жену и тещу, «которые его дом превратили в гостиницу».
Полина не стала перечить мужу и попросила Анну съехать. И еще сказала:
– «В райисполкоме есть свободное место бухгалтера. Зарплата 300 рублей. Конечно, это мало, но лучше, чем ничего. На съемное жилье хватит».
Тетя Катя расплакалась: – «Нюша! Разве я знала, что так получится… Ни работы, ни жилья»– сокрушалась она. – Ты уж, соглашайся на бухгалтера, чтобы оплачивать жилье. А там, Бог даст, и наладится. Я буду тебе каждый день литр молока давать детям на кашу. – Прости меня!
Анна согласилась. Она сняла комнату за двести рублей в месяц в пристройке к жилому дому у реки, купила машину дров и два мешка картошки. Запас денег кончился и рассчитывать она могла только на пенсию в 270 рублей за погибшего мужа.
Прежде, чем приступить к работе в должности бухгалтера, съездила в Москву в Министерство социальной защиты. Предъявила там свои документы и попросила устроить ее на работу по номенклатурному списку в любой город Подмосковья. Ее поставили на учет и велели ждать.
Анна побывала в военкомате Москвы и встала на учет, как участник войны…
После принятых мер к налаживанию жизни на новом месте, она приступила к работе бухгалтера в районном центре.
Началось трудное время, с копеечным расчетом прожиточных дней. Кроме оплаты жилья, – самой важной статьей расходов – в 60 рублей – была на еду детей в школе. Она состояла из булочки и стакана сладкого чая.
Сестра Катя, действительно, каждый день тайком от Полины и Алексея, сдавая по разнарядке государства «излишки молока» на молокозавод, выделяла детям литр молока на кашу. Вечером ели картошку с селедкой.
Однажды, при получении зарплаты, к Анне обратилась племянница Полина. – Я знаю, что мать дает вам молоко. Деньги можете отдавать мне.
– У меня нет денег на молоко – ответила Анна.
Так, молоко исчезло из рациона детей.
Сестры жили на разных сторонах поселка и потому не встречались после разъезда. И все же их пути пересеклись в магазине, где Анна покупала селедку.
– Ты уж прости меня, Нюша. Запретили мне давать тебе молоко бесплатно, – пустив слезу, сказала Катя. Я, ведь – не хозяйка в доме.
– Бог простит.
Дети пообносились и страдали, что не могут помочь матери, как это было раньше: ни клюквы, ни алюминия в лесу на новом местожительстве не было. И с наступлением лета, не поставив мать в известность, пришли в дорожный отдел и попросили «любой работы на каникулы».
Мастер Исаич – долго теребил ус, а потом сказал: «Ежели только подгребать гравий и следить за порядком в гараже».
Детей определили к двум рабочим, которые нагружали машины гравием.
Мужчины были не прочь выпить и потому – все время пребывали в хорошем настроении. Узнав, чем занимаются ее дети, еще не окрепшие после войны и плена, Анна разрыдалась и вновь, и вновь – мысленно корила себя за переезд поближе к родственникам.
Исаич закрывал детям наряды по пятьдесят и семьдесят рублей в месяц.
За лето они заработали триста рублей на обувь. Больше ни на что – не хватило.
В конце лета, Анну вызвали в Москву. Министерство социального обеспечения планировало открытие нового Дома для престарелых и предложило ей возглавить его. Но сначала, Дом надо было отстроить, провести коммуникации, оборудовать всем необходимым…
Женщина согласилась. Понимая, что одна эту работу не потянет, Анна обратилась в воинскую часть, с просьбой помочь техникой, рабочей силой и строительными материалами. Через три месяца Дом для пожилых людей был открыт, штат набран, и она начала прием стариков.
Такой скорости и напора в Министерстве – еще не видели! – Дом был признан лучшим в Подмосковье. Ей выписали премию в два оклада, и она смогла к новому учебному году купить детям школьную форму и зимнюю одежду.
Кроме того, Министерство направило письмо руководству местной власти с просьбой позаботиться об обеспечении семьи фронтовика жильем. Через год им предоставили комнату в коммунальном доме. Еще через год из военкомата Москвы пришло письмо, в котором ставили в известность, что Анна награждена Орденом Красной Звезды за заслуги перед Отечеством в годы войны и просили прибыть за его получением.
В школе, где учились дети, жизнь била ключем! – Дети носились по коридорам, катались по перилам лестниц, мальчишки щипали девчонок, те – пищали и жаловались учителю.
К Медее – тоже стал приставать восьмиклассник Володька. Она раз отпихнула его, два – отпихнула, но он упорно преследовал ее и пытался по – взрослому обнять.
Однажды, на повороте лестницы со второго этажа на первый, он съехал вслед за ней по перилам и двумя руками обнял. Медея со всей силы толкнула его назад.
А поскольку, его большая часть нижней половины тела осталась на перилах, он опрокинулся вниз головой, и девочка с ужасом подумала: – Сейчас – разобьется!