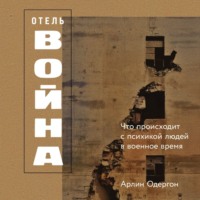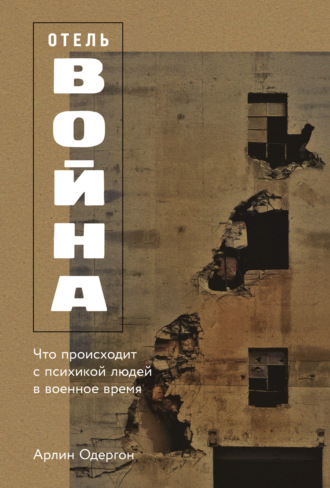
Полная версия
Отель «Война»: Что происходит с психикой людей в военное время
Чтобы понять, какую роль мы сами играем в политических конфликтах и какие возможны альтернативы, люди должны быть хорошо информированы, свободно мыслить и уметь выявлять как внешние, так и внутренние источники конфликтов.
Некоторые политические лидеры и военачальники пользуются знаниями о психологической и духовной динамике конфликта ради достижения власти и обогащения ценой социальных трагедий, но мы тоже можем получить дивиденды от психологических знаний, и ответственность за то, как мы распорядимся ими, лежит на всех нас. Ниже я привожу краткое содержание пяти частей этой книги, чтобы предварить ваше знакомство с ней.
Содержание книги
Часть I.
Справедливость и круги истории
История повторяется, и конфликты почти всегда возникают во имя справедливости. Совершая жесточайшее насилие, люди обычно убеждены, что делают это ради восстановления справедливости. Мы склонны считать себя правыми и справедливыми независимо от того, находимся ли в привилегированном положении или в униженном. Первая часть книги показывает, как наше стремление к справедливости используется для нагнетания конфликта. Как можно спровоцировать вражду между людьми, апеллируя к их преданности и ответственности. Вместе с тем чувство ответственности используется и для пресечения конфликтов. В этом состоит задача Международных трибуналов, комиссий правды и примирения, так называемых процессов люстрации в бывших социалистических странах, организованных дискуссий по поводу сложных вопросов личной и коллективной ответственности и т. д. Изучение проблем личной и коллективной ответственности необходимо для того, чтобы понять, как мы участвуем в воспроизведении конфликта и как можем перестать это делать.
Часть IIТеррор и нерушимый духГосударственные тактики террора и акты «терроризма» разрабатываются с учетом нашей индивидуальной и коллективной психологии. Неустойчивые политические режимы, правящие только за счет насилия и устрашения, основывают свои жестокие методы управления на государственном терроре и репрессиях. В части II внимание сосредоточено главным образом на государственных тактиках террора: умышленном провоцировании напряженности с целью сломить сопротивление недовольных граждан, дегуманизации, демонизации, притуплении чувствительности, психологическом узаконивании насилия, пытках, репрессиях, преследовании лидеров, дезинформации и стремлении уязвить душу общества. Мы исследуем, как психологию используют для того, чтобы любой ценой подавить человеческий дух, и как дух этому сопротивляется.
Часть IIIТравма: исторический кошмарДля разжигания конфликтов активно используется историческая память о нанесенных обидах. Людьми можно манипулировать до тех пор, пока они не осознают, что их травматический опыт превратился в устойчивый психологический комплекс. Мы рассмотрим динамику индивидуальных и коллективных травматических переживаний и то, как она влияет на международное взаимодействие. Травматический комплекс выражается не только в острых воспоминаниях о пережитых жертвах – неблагоприятным симптомом становится также безразличие перед лицом жестокости, и это, в свою очередь, составляет социально-психологическую предпосылку политического насилия. Психическая травма представляет собой опасное общественное явление, и, чтобы двигаться вперед, необходимо вплести личный и коллективный опыт травматических событий в общеисторический контекст. Мы анализируем, как травматические события воспроизводятся в памяти отдельных людей и сообществ, в частности, как раскручиваются циклы мести и как ради ее осуществления каждый раз пересматривается история. Если травматическая история остается нерассказанной, она, как ненайденная братская могила, не находит своего завершения.
Часть IVБоевой клич – измененные состояния сознания во время войныВо время трагических событий войны люди чувствуют себя вовлеченными в мифическую битву. Отдельные личности и целые общества сталкиваются с лишениями и смертью, оказываются вырванными из привычной жизни. После войны те, кто выжил, иногда чувствуют неспособность или нежелание вернуться к мирной жизни. В напряженной военной атмосфере люди порой испытывают духовный подъем, пьянящее ощущение востребованности и осмысленности своего бытия. Человеку присуще стремление выйти за пределы обыденного: в поисках смысла жизни мы обращаемся к религии, духовным практикам, искусству, науке. Самые возвышенные качества человеческой природы – потребность в обретении смысла жизни и причастности к бесконечному, преданность и желание почувствовать себя частью великого целого – тоже используются для пробуждения в нас жестокости. Пока этого не поймем, мы не сможем сознательно и творчески сопротивляться манипуляциям.
Часть VПроцесс осознанности в горячих точкахЕще одним глубинным свойством человеческой природы является стремление к критическому самосознанию. Но и это стремление, если оно недостаточно развито, может использоваться для разжигания ненависти. На протяжении всей истории основным способом взаимодействия была власть одних людей над другими. В конфликтных ситуациях люди часто сводят дело к доминированию одной идеи над другой внутри самих себя. Между тем всегда есть возможность возвыситься над этой примитивной схемой. Мы попытаемся разобраться в том, что люди подразумевают под сознательностью и каким образом восприятие конфликта и отношение к нему определяется общим мировоззрением. Рассмотрев пример создания карт, вспомнив основы теории систем, теории хаоса, теории сложности и нелинейности, мы попытаемся понять, как осознание может проявиться в горячих точках и помочь нам в критическом осмыслении ситуации. Если смотреть на вещи оптимистично, то человечество находится в начале долгого пути: вместо того чтобы пассивно привыкать к разрушительным конфликтам, наблюдать за ними или участвовать в них, оно может научиться в полной мере использовать свои возможности.
Часть I
Справедливость и круги истории
Глава 1
Во имя справедливости
Стремление к справедливости дает нам мужество жить… и нести смерть другим. Вера в справедливость придает смысл нашей борьбе за свободу… и оправдывает террор и господство над другими. Чувство справедливости и ответственности можно использовать для разжигания вооруженных конфликтов, и понимание этого необходимо для того, чтобы этих конфликтов избежать.
Золотая жила справедливости
Несправедливость вызывает у нас гнев, мы жаждем справедливости – и эта страсть течет по нашим венам и только и ждет искры, чтобы разгореться. Самая страшная жестокость легко может быть оправдана стремлением к возмездию. Ответом на нечестное отношение может быть или молчание, или ярость. Кажется, что эта горючая смесь взорвется под давлением. Но слишком часто кто-то сознательно поджигает ее.
В 1930-х годах, чувствуя себя несправедливо униженными после поражения в Первой мировой войне, немцы сплотились вокруг идеи о том, что они – высшая раса. Им хотелось гордиться собой. Гитлер убедил их систематически осуществлять геноцид, уверяя: вновь стать могущественной нацией возможно, и такой путь справедлив и оправдан. При этом евреи, коммунисты, гомосексуалы и цыгане были объявлены предателями, ответственными за все настоящие и прошлые унижения. В Германии пожилые люди рассказывали мне: в момент прихода Гитлера к власти они были еще маленькими, однако помнят ощущение наступившей справедливости и радости в обществе.
Во время кровопролитий в Хорватии, Боснии и Косове люди совершали ужаснейшие преступления и говорили, что справедливость на их стороне. Для того чтобы возбудить ярость по поводу исторических обид, использовались специальные термины, и таким образом создавалась лингвистическая и эмоциональная подоплека для новых витков насилия. Сербский националист Воислав Шешель, лидер Сербской радикальной партии, желая освежить память о хорватском ультранационалистическом движении усташей времен Второй мировой войны, начал использовать слово «четник» для обозначения сербского националистического движения. Четники воевали против режима усташей. Усташи же были ответственны за резню сербов, евреев и цыган. В ходе войны в бывшей Югославии в 1990-х годах хорватов стали называть усташами, а сербов четниками. А мусульман иногда называли «турками», по аналогии с захватчиками XIV века. Одного слова оказалось достаточно, чтобы превратить страшное насилие в подвиг в борьбе за освобождение и справедливость.
В феврале 2003 года Воислав Шешель был обвинен по восьми пунктам в преступлениях против человечности и по шести в нарушениях военного права[10]. Даже несмотря на это в конце 2003 года, пока он был в гаагской тюрьме, Радикальная партия получила на парламентских выборах 82 места – больше, чем любая другая партия в Сербии. Временный председатель Радикальной партии Тонисия Никдик сказала: «Мы добыли эту победу для Воислава Шешеля и других гаагских обвиняемых, а также для граждан Сербии, которых уже достаточно унижали»[11].
В Руанде в 1994 году гражданское население племени хуту всего за три месяца вырезало примерно 750 000 тутси и умеренных хуту, объясняя это тем, что их племя когда-то несправедливо притесняли. Ученые спорят об историческом значении категорий «хуту» и «тутси», но большинство согласно с тем, что в доколониальное время эти две группы этнически не были четко разделены. У них был один язык и одинаковые религиозные обряды. Разделение произошло по социальным, экономическим и политическим признакам. Хуту и тутси заключали между собой браки, а представитель племени хуту, приобретший крупный рогатый скот, мог считаться тутси. У тутси (около 14 % населения) было больше власти, они занимали руководящие должности и выращивали скот, в то время как хуту, составлявшие примерно 85 %, в основном были земледельцами. Представители третьей, маленькой группы – тва, или батва, – считались коренными жителями Руанды и составляли около 1 % населения. Это племя жило в лесу, занималось охотой, собирательством и гончарным делом. По некоторым данным, около 30 % тва тоже были убиты во время геноцида 1994 года[12].
Когда в Руанду приехали миссионеры, они заметили, что тутси находятся в привилегированном положении. И за несколько последующих десятилетий сформировалась устраивающая как европейцев, так и тутси легенда, что они с хуту действительно разные народы. В 1930-х годах бельгийская администрация ввела удостоверяющие личность документы, где указывалась этническая принадлежность каждого человека. Еще больший разрыв произошел в социальной сфере. Но если в начале колониального периода идея о «естественном» привилегированном положении тутси была использована для того, чтобы оправдать их власть в стране, то в 1950-х годах она стала поводом для восстания хуту. На этот раз миссионеры встали на сторону хуту, распространяя среди них мысль, что тутси веками нещадно их эксплуатировали и несправедливо с ними обращались. В 1959 году произошла революция и власть от тутси перешла к хуту. На представителей племени тутси при этом совершались нападения. Несправедливости, чинимые колониальным правительством, остались при этом вне поля зрения, и колониальных администраторов не трогали[13]. В 1994 году прежние несправедливые действия тутси по отношению к хуту снова были использованы как основное оправдание геноцида тутси, развязанного экстремистами хуту.
Безграничное правосудие
Под влиянием жестоких событий мы впадаем в такое неустойчивое состояние, что на наших чувствах и представлениях о справедливости довольно легко можно сыграть. После 11 сентября 2001 года президент Буш поклялся наказать тех, кто совершил это нападение. Военная операция в Афганистане, ставшая первым этапом «войны с терроризмом», была названа «Безграничное правосудие». Мусульманские общины выступили против такого названия, так как в исламе «безграничное правосудие» может вершить только Аллах. Тогда операция была переименована в «Несокрушимую свободу».
Перед тем как начать бомбардировки Ирака в 2003 году, правительства США и Великобритании заявили: их цель – защитить мир от иракского оружия массового уничтожения. Но когда все больше и больше людей стали требовать доказательств того, что такое оружие существует, акцент сместили. Теперь речь уже шла о жестокостях, чинимых Саддамом по отношению к гражданам Ирака.
Таким образом у людей пытались вызвать возмущение режимом и оправдать военное вмешательство. Нас как бы попросили забыть о серьезных сомнениях по поводу справедливости (и смысла) упреждающего и одностороннего удара по стране с целью установить «демократию». Очень многие в мире наблюдали за этими событиями, понимая, что их попросили поверить в сказку о добре и зле, и возмущались несправедливым доминированием США на мировой арене.
Что такое справедливость?
Чтобы понять, как разгораются вооруженные конфликты, необходимо разобраться в понятии «справедливость» и нашем отношении к ней. Справедливость предполагает взаимозависимость между устойчивостью общества (или любого сообщества, группы, семьи или организации) и индивидуальными правами и обязанностями. Справедливость означает отправление правосудия. В основе любых политических систем лежат идеалы справедливости, будь то демократические идеи свободы и закона или социалистическая философия равного распределения благ.
Справедливость – это кодекс взаимоотношений, кодекс гражданского общества. Кто-то верит в высшую, бесконечную справедливость, находящуюся за пределами личных возможностей, и в ограниченность нашего тягостного и несправедливого мира. Мы можем считать, что справедливость находится в руках всеблагого и всезнающего Бога (христианского, иудейского, мусульманского или любого другого). Или, согласно индуистской идее кармы, справедливость – это закон природы, по которому все мы связаны друг с другом и несем ответственность за наши взаимоотношения. В буддизме бодхисатва сострадает всем живым существам и дает клятву оставаться в этом мире до тех пор, пока мы все не станем свободными и не обретем понимания. Гнев же Будды разрывает оковы наших иллюзий.

Рис. 1.1. Афина с совой в руке олицетворяет мудрость в вопросах правосудия и гражданского права, около 460 г. до н. э.

Рис. 1.2. Дипанкара Будда. На фестивале Самьек в Непале каждые пять лет демонстрируют больших Дипанкара Будд. «Самьек» означает уникальность каждого чувствующего существа, а фестиваль обозначает путь бодхисатвы

Рис. 1.3. Будда Матри («Мать Будд») Вайраварахи / Кадгха Дакини, около XVIII в. Как Вайраварахи она олицетворяет женский аспект херука (миролюбивых/гневных) Будд. Как Кадгха Дакини она своим мечом мудрости разрушает иллюзии

Рис. 1.4. «Пока шла игра, Королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала: “Отрубить ему голову! Голову ей с плеч!”» (из книги «Алиса в Стране чудес», иллюстрации Артура Рэкхэма)
Различия в религиях, культурах и стиле политического мышления влияют на наше представление о справедливости. Тем не менее существует понятие универсальной справедливости – кодекса прав человека, которые не зависят от культурных, религиозных и политических различий. Международная правовая система и светские демократические государства призваны гарантировать свободу выбора духовных ценностей. И все же некоторые люди используют понятие «универсальная система права» для других целей – доказательства, что именно их фундаменталистские религиозные ценности лежат в основе этой универсальной системы.
Когда мы говорим о справедливости, сразу вспоминаются любимые супергерои с суперспособностями, готовые сразиться со злом, противостоять хулиганам и защитить слабых. Справедливость часто представляют как сведение счетов: если нас унизили или оскорбили, нам хочется наказать обидчика. Некоторые популярные мультфильмы обыгрывают эту черту человеческого характера: в бесконечных сериях герои продумывают планы мщения и стремятся восстановить справедливость.
Часто справедливость связывают с расплатой за содеянное зло, однако правило «око за око, зуб за зуб» в свое время подразумевало некое ограничение, то есть наказание за несправедливость должно было быть адекватно проступку. В наше время призывы к справедливости нередко предполагают месть, а месть, как правило, не ограничивается одним «зубом». В нескольких псалмах содержится просьба к Богу отомстить врагам. И кое-кто верит, что наказание преступников – это карающая десница Божья.
Люди, у которых есть возможность участвовать в восстановлении справедливости, – будь то судьи, арбитры, религиозные деятели или старейшины, – могут быть в нашем представлении более или менее суровыми или благосклонными. Один из самых почитаемых христианских святых – Николай Мирликийский, он же Санта-Клаус, в одних странах считается могущественным и строгим, в других – добрым и веселым: он знает, кто из детишек ведет себя плохо, а кто хорошо, и в соответствии с этим наказывает или дарит подарки.
Справедливость (правосудие) – это, среди прочего, субъективные решения, которые могут провозглашаться высшей властью («Отрубить ему голову!»), а могут выноситься присяжными после выслушивания и взвешивания всех показаний. В личной жизни нам тоже приходится выносить такие решения, когда жизнь ставит нас перед тяжелым выбором или этическими дилеммами. Справедливость – это еще и наше отношение к своей ответственности, своим собственным действиям, действиям своей группы или даже своих врагов.
Призывы к справедливости предполагают также, что находящиеся у власти люди априори добродетельны, даже если они кого-то подавляют, эксплуатируют или убивают. Например, в США в эпоху рабства «рабовладельческий кодекс» в рамках «правовой» системы разрешал использовать пытки для наказания беглых рабов[14].
Справедливость связана и с феноменом ответственности. Ответственность необходима обществу для того, чтобы прекратить споры, «закрыть» прошедший период истории, найти путь, по которому можно вместе двигаться в будущее. Ответственность иногда подразумевает наказание. Иногда – возмещение ущерба. Ответственность – это восполнение недостающей информации. И память о прошлом. Иногда мы призываем к справедливости ради правды и прощения.
В главе 3 мы рассмотрим, как вопросы ответственности решаются в трибуналах и комиссиях правды и примирения. Мы также рассмотрим, как идет борьба за справедливость и ответственность на общественных форумах, в наших сердцах, в общении отдельных людей и внутри различных организаций.
Искажение времени
Для оправдания этнических чисток и геноцида в 1990-х годах в бывшей Югославии люди вспоминали события далекого прошлого. Так, в Боснии серб, учитель по профессии, участвовавший в осаде Сараева, сказал журналисту: «До конца лета мы выгоним из города турецкую армию так же, как они выгнали нас с Косова поля в 1389 году». Дэвид Рифф пишет:
Мужчина смотрел сверху на Сараево – землю, которую он целый год обстреливал из пулемета пятидесятого калибра, – и вместо красивейшего некогда города видел только палаточный лагерь турецкой армии, завоевавшей Балканы в XIV–XV веках. Должно быть, он знал: среди тех, в кого он целился, были мирные жители; за год осады погибло 3500 детей. Но для него в этом расположенном в низине городе не существовало ничего, кроме вооруженных захватчиков. Он был уверен, что не убивал. Ведь захватчиков не убивают – от них защищаются. «Мы, сербы, спасаем Евроnу», – утверждал он[15].
По воспоминаниям многих очевидцев, во время войны в Боснии было очень сложно узнать актуальные новости, зато все рассказывали о событиях в Косове в 1389 году. Поражение сербов в битве на Поле черных дроздов обсуждали так, как будто оно произошло вчера. Технология разжигания национализма заключалась в том, чтобы вскрывать и бередить исторические раны. В 1996 году, находясь в Южной Боснии, президент Сербской Республики заявил, что сербы, живущие бок о бок с мусульманами, «будут уже не сербы, а турки или католики (хорваты)»[16].
Люди с такой легкостью и быстротой вырабатывают фантастическую квазилогику, искажая время в своем сознании, что возникает пугающее ощущение паранойи, психоза или сюжета из научно-фантастического романа. Попытки остановить рост напряженности в бывшей Югославии потерпели крах отчасти из-за того, что на ситуацию оказывали влияние разнонаправленные факторы и разобраться в них было непросто. Разговоры о том, что и когда происходило в то или иное время, будили коллективную память о пережитых травмах; к этому добавлялись распространявшиеся пропагандой страх, подозрительность и ненависть.
В период с 1996 по 2002 год мы с Лейном Арье были фасилитаторами на крупных форумах, в которых принимали участие люди со всех пострадавших от войны территорий Хорватии. Форумы были посвящены проблемам послевоенного урегулирования и формирования единого общества. Проводились они дважды в год в разных регионах Хорватии, длились по четыре дня, и в каждом из них участвовало 60–85 человек. Всякий раз приходило много новых людей, но были и такие, кто посещал не один форум или даже присутствовал почти на всех. Проект координировала хорватская неправительственная организация, поддерживало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другие международные организации, а также организации Европейского союза и частные фонды, занимающиеся проблемами послевоенного урегулирования и общественного строительства. В форумах участвовали работники правительственных учреждений, главы муниципалитетов, неправительственных и международных организаций. Среди них были педагоги, врачи, мэры городов, социальные работники, юристы, психологи, то есть работники социальной сферы или специалисты по общественному планированию, люди разных национальностей и верований: хорваты, сербы, мусульмане, цыгане, венгры, а также дети, рожденные от смешанных браков. Каждый из них терпел боль и тяготы войны – многие перенесли тяжелую душевную травму, были беженцами, перемещенными лицами, кто-то только недавно вернулся в свою страну. Участники в группах обсуждали болезненные вопросы и конфликты, с которыми сталкивались в жизни и на работе. Одна из идей, лежавших в основе проекта, была следующей: люди могут успешно работать в своих сообществах только в том случае, если они способны мирно уживаться друг с другом. Вопросы об общественных конфликтах, о насилии и проблеме ответственности вызывали болезненные и эмоциональные споры. Дискуссия о проблемах в конкретном сообществе быстро перерастала в горячие дискуссии о том, что и когда произошло. При этом мог обсуждаться очень короткий период во время войны в Боснии, непосредственно перед ней, а также события Второй мировой, Первой мировой или XIV века.
У меня на стене уже долго висит желтый стикер с надписью: «Либо все сошли с ума, либо история не в прошлом». Если придерживаться точки зрения, что история развивается по линейной оси, очень сложно разобраться в многоуровневом, очевидно неуправляемом конфликте. Еще сложнее при таком подходе повлиять на него. Но встаньте на другую позицию – что вся история находится в настоящем[17][18], – и многое из того, что казалось невероятно сложным, станет гораздо понятнее. Например, то, как людей втягивают в войну и превращают в убийц, почему так легко трансформируется сознание, делая возможными убийства и насилие, а также каким может быть механизм налаживания отношений и как стать посредником в ситуациях, где каждый убежден в своей правоте и может ее доказать.
Справедливость и власть
Конфликт редко бывает просто противостоянием двух разных позиций. Одна из них, представляя социальную, политическую, институциональную или военную власть, может доминировать над другой. Исторический контекст всегда играет очень важную роль в конфликте, и расстановка сил на его протяжении часто меняется. Например, в современной Словакии венгры подвергаются дискриминации. Предубеждение против них отчасти связано с действиями венгров во времена, когда они господствовали в регионе.
«Гегемония» означает доминирование одной группы, социальной прослойки или культуры над другой. Речь идет не столько о политическом, военном или экономическом контроле как таковом, сколько об узаконивании этого контроля, который ассоциируется в обществе со здравым смыслом[19], ибо призывы к справедливости питают освободительные движения точно так же, как претензии на справедливость и моральное превосходство – гегемонию. Выступая в военной академии США Вест-Пойнт, Джордж Буш заявил: «Америка – единственная существующая модель человеческого прогресса»[20]. Многие люди, слыша такие комментарии, закатывают глаза, – и тем не менее концепция «предначертания судьбы» провоцирует серьезный международный конфликт[21]. Неравенство проникает даже в движения за права человека. В связи с этим Билефельдт пишет: «Иногда наши американские друзья говорят, что борются за права человека, и тут же добавляют, что еще и за американский стиль жизни. Здесь кроется противоречие»[22].