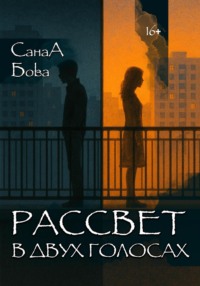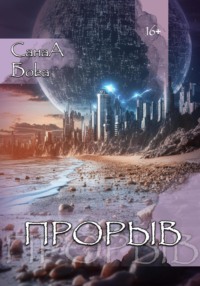Полная версия
Кровь и пепел Приада
Они замолчали, и тишина, разлившаяся между ними, словно не была просто отсутствием звука, она стала существом, живым, плотным, почти материальным, таким густым, что казалось: стоит вдохнуть глубже, и можно подавиться. Эта тишина была древнее слов, древнее вины, древнее даже самой Амажуан, и в ней что-то дышало: не воздух – ожидание. Воздух затаился, как если бы сам мир, разбуженный их словами, теперь выжидал, боясь разрушить нечто священное и ужасающее в их соединении.
И тогда, как будто эта тишина стала чересчур насыщенной, из трещин у подножия разрушенного алтаря, где вековой камень был прорван крошечными ростками изумрудной травы – травы, не растущей в аду, не знавшей серы и крови, не ведавшей проклятий, послышался шелест. Не резкий и не громкий, но живой, как дыхание чего-то, слишком долго спавшего и теперь просыпавшегося не к ярости, а к осознанию.
Шелест превратился в звук, тонкий, колеблющийся, как если бы кто-то задел затерянную струну на огромной, забытой арфе, пылящейся в руинах эпох. Этот звук усиливался, расправлялся, насыщался ритмом, и этот ритм был не боевой, не маршевый, не заклинательный. Он был похож на сердцебиение, слабое, сбивчивое, как у младенца, но с каждым мгновением всё более определённое, всё более настойчивое. Это был голос. Но он не говорил словами. Он не нуждался в них. Он проникал не в уши, а в самое нутро, туда, где даже у демона остаётся то, что когда-то было сердцем.
Это был голос Приада. Но не звучавший в скрежете цепей, не рождавшийся из оков, из пыток, из проклятых контрактов. Это был голос его глубины, его ядра, его памяти. Он не повелевал. Он спрашивал. Он вторгался, но не требовал. Он был как древняя тень, шепчущая с края времени: Вы нарушили закон. Вы пробудили легенду.
Дурас медленно повернул голову, как поворачиваются не просто по зову, а по зову-откровению, и взгляд его остановился на полуразрушенной нише у основания колонн. Там, где прежде он видел только мрак, теперь камень, почерневший от времени и проклятий, отступил, обнажив вырезанную фигуру, почти человеческую. Не лик – архетип. Его тело было изломано, сердце – расколото, и из трещины этого сердца вырывались языки пламени, тонкие и извивающиеся, но вместо того, чтобы пожирать, они расцветали, переходили в цветы, будто сам огонь выбрал не разрушение, а рождение.
В центре этих пылающих венчиков, словно глаз урагана, горела искра. Она не была алой, не была белой. Она светилась изумрудом, цветом, которого не бывает в аду.
– Что это?.. – выдохнул он, и в голосе его не было вопроса. Это был внутренний трепет, почти исповедь. Он говорил не ей, а себе, как будто что-то в нём начало шевелиться, пробуждаться, искать соответствие.
Амажуан подошла ближе, и каждый её шаг был не поступью демоницы, но ритуалом, как если бы она шла по собственному следу, давно стёртому с земли, но всё ещё живому в памяти пространства. Её голос, когда она заговорила, был глухим, тусклым, как у тех, кто читает надгробие, где высечено их собственное имя, имя, которое ещё не звучало, но уже принадлежало им.
– Это… – она сделала паузу, и её взгляд скользнул по расколотому сердцу, – пророчество. Его вырезали те, кто был до нас. Его скрывали, хранили, оттирали с памяти. Но оно осталось. Камень помнит.
Она сделала шаг ближе, и её пальцы коснулись холодной, потрескавшейся поверхности. Тонкие, но крепкие, они дрогнули, когда она произнесла:
– Оно гласит: «Когда демон полюбит смертного, и не отвергнет этого чувства – Приад рассыплется. Но на его пепле прорастёт путь, по которому сможет пройти тот, кто ещё не родился».
Дурас смотрел на фигуру, но в его взгляде не было трепета, не было страха. В нём было узнавание, будто каждый образ на камне – это отголосок того, что уже живёт в нём, просто ещё не проснулось.
– И ты… верила в это? – спросил он, тихо, почти боясь разрушить хрупкое равновесие момента.
Амажуан покачала головой, не как отрицание смысла, но как отказ от веры, рождённой из боли.
– Нет. Я… боялась.
Её признание прозвучало не жалобой, не оправданием, но открытием, и в этом открытии была хрупкая красота, доступная только тем, кто прожил слишком много, чтобы ещё надеяться, и всё же… всё же говорит правду.
– А теперь?
Он произнёс это не торопливо и не напористо, а как вопрос, уже знающий ответ, но всё же требующий, чтобы он был произнесён.
Она посмотрела на него, долго, внимательно, будто снимала с него покровы, не одежду, но слои страха, недоверия, вековой разобщённости. И в этом взгляде не было больше демонессы, была только женщина, в которую вернулась песня.
– А теперь… – прошептала она, – я не знаю, кто я. Демон, которому запретили петь? Или голос, пробуждённый тобой?
И тогда, в этой самой точке, в самом сердце Приада, в месте, где всё должно было угаснуть, из пепла поднялся цветок. Один. Хрупкий. Изумрудный. Он не светился, он дышал. Он не стремился выжить, он был. Дрожащий от неведомого будущего, он стал началом пути, о котором знало пророчество.
Не воскрешением, но возможностью.
Развернувшись над Приадом, вечность словно замерла в миге после дыхания, не смерти, но чего-то гораздо глубже: перемены, не имеющей языка.
Воздух уплотнился, стал тяжёлым, как ткань, натянутая между двумя реальностями, готовая порваться. И в этом сгущённом пространстве не звучало ни стона, ни скрежета, ни зова: только тишина, напряжённая, полная смыслов, которых не могли вынести ни демоны, ни тени. Эта тишина не была тишиной страха, не тишиной покорности, она была тишиной растерянности, впервые переживаемой миром, не созданным для сомнений.
Они сидели у разрушенного святилища, где некогда возносились не проклятия, а молитвы, такие древние, что сами слова были забыты, но структура камня всё ещё хранила их в ритме трещин, как шрамы хранят биографию боли. Каменные плиты, обломки арок, колонны с застывшими в гневе барельефами – всё это теперь не давило, не доминировало. Оно всматривалось. Мир, некогда безучастный, теперь был свидетелем.
Амажуан и Дурас сидели рядом. Их плечи соприкасались, и это прикосновение не имело в себе страсти, не несло обетов. Оно было якорем, напоминанием, что они всё ещё существуют в телах, всё ещё в силах дышать. Между ними лежала тишина, насыщенная, не пустая, а наполненная той формой близости, когда слова теряют нужду, потому что присутствие говорит само.
Амажуан глядела в сторону пепельных дюн, которые, словно очнувшись, вновь начали движение. Но движение это не было бурей, не было карающей волной. Это было внимание, как если бы сами дюны прислушивались, не к словам, а к песне, восстанавливающейся по одному такту, как нить памяти, возвращающаяся в ткань реальности.
– Я не помню, как звучал мой голос, – сказала она, не планируя говорить, не желая, но не в силах больше хранить. Её голос был не властным, не повелительным, но живым, дрожащим от того, что он снова стал честным. – Я не могу воспроизвести его в себе. Не слышу тембр. Не чувствую вибраций. Лишь… ощущение. Как след на воде, исчезнувший ещё до того, как ты понял, что прошёл по ней.
Её слова упали в тишину, как камень в воду, и та не разошлась кругами, она впитала их, унеся внутрь себя, вглубь Приада.
Дурас ответил не сразу. Он смотрел в небо, не чёрное, не звёздное, а глухое, как пепел, натянутый на купол. Но теперь, после всего, в его глубине будто таилось ожидание, намёк на веко, которое может дрогнуть.
– Когда я был ребёнком… – начал он, медленно, с такой осторожностью, как открывают гробницу не для того, чтобы ограбить, а чтобы попросить прощения у древнего духа, – я верил, что если молчать, когда все кричат, боль пройдёт мимо. Что если стать тенью – тебя не найдут. А тени здесь не касаются друг друга.
Он замолчал на миг. В этом молчании не было жалобы, оно было признанием того, во что он когда-то верил с чистотой, страшнее любой лжи.
– Но когда пришли за Селией, – продолжил он, и в его голосе не было надлома, только тихий ужас, пережитый, но не отпущенный, – я понял: боль ищет молчащих, потому что они самые уязвимые. Их легко сломать. Не криком. Тишиной.
Амажуан не перебивала. Её дыхание сбилось, но не от страха, а от узнавания. Она знала эту тишину. Она жила в ней веками.
– Она смотрела на меня, когда её уводили, – проговорил он, и его глаза стали не стеклянными, но стеклянными от осознания, – и не плакала. Только… пела. Это не была песня в привычном смысле, скорее… одна нота. Одна мелодия. Как если бы она звала меня, но не голосом, а сердцем. Я пошёл за ними, не зная, куда, не зная, зачем. Я просто… не мог не идти.
Он повернулся к Амажуан, и в его взгляде было не геройство, не трагедия, а путь, прямой, обугленный, исцарапанный, но всё ещё ведущий.
– Я до сих пор иду.
Амажуан подняла руку и провела по своему запястью, словно ощущая там другой пульс, не свой, не его, но принадлежащий тому, что пробудилось. Она молчала, но в её молчании звучало отражение той самой ноты.
И где-то в корнях пепельной земли дрожал пробившийся сквозь тьму изумрудный цветок. Не от страха. От узнавания.
Амажуан смотрела на него не глазами, но всем тем, что оставалось в ней живого, упрямо дышащего под слоями древнего отчуждения, веков боли и искусно выстроенных механизмов самозащиты. Она смотрела так, как смотрят на отголосок судьбы, ставший плотью, на живую форму того, что должно было остаться миражом. И в этом взгляде не было желания, не было власти, только изломанная тоска, острая, как трещина в стекле: тоска по хрупкому, непостижимому, по возможности чувствовать без опасности быть уничтоженной.
Он сидел напротив, не оборачиваясь, не требуя, и это его молчание было не отказом, а жестом, щедрым, как тень в полуденный зной. Он ничего не ждал от неё, и потому она впервые за века решилась сказать не то, что следует, а то, о чём невозможно больше молчать.
– Ты не похож на тех, кого я судила, – сказала она, и голос её был тихим, почти мёртвым, но в этой тишине звучала тяжесть выбора, сделанного вновь и вновь, как приговор. – Ты не несёшь в себе привычного греха. Не алчности. Не ярости. Не предательства. Ты несёшь… потерю.
И, произнеся это, она впервые осознала, что потеря – это не отсутствие, а вместилище. Что те, кто несут её, не пусты, а полны – полны голосов, лиц, воспоминаний, боли, и именно в этом их бесконечная сила и уязвимость.
– А Приад, – продолжила она, – не умеет наказывать за потерю. Мы знаем, как сжигать. Как превращать в золу. Как ломать тела, волю, память. Но мы не знаем, как скорбеть. Нас этому не учили. Нас учили вырывать, а не хоронить.
Он повернулся к ней, и в его улыбке не было победы, не было даже веры. Но было нечто, страшнее для ада, чем любое восстание. Была надежда.
– Тогда, может быть, именно поэтому я здесь, – произнёс он. – Потому что кто-то должен научить скорбящий ад… жить с утратой, не разрушая всё вокруг.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.