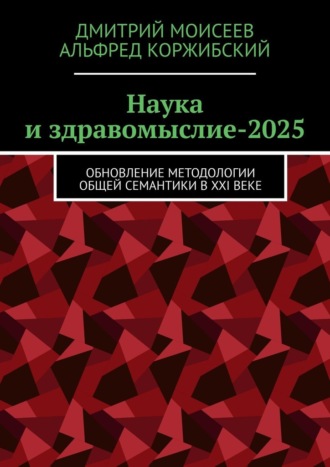
Полная версия
Наука и здравомыслие-2025. Обновление методологии общей семантики в XXI веке
– Цифровые инструменты:
– Структурный дифференциал переосмыслен как интерактивный цифровой инструмент, что делает обучение более доступным.
– Эмпирическая проверяемость:
– Указана необходимость исследований с использованием современных методов, таких как МРТ и РКИ, для подтверждения эффективности методов.
– Ясность и структура:
– Текст упрощён, повторы устранены, структура сделана более логичной (введение, практика, приложения, вывод).
– Архаичные формулировки («не есть слова») заменены на более естественные («слова не являются объектом»).
Раздел В. О семантическом моделировании в когнитивных реакциях
Термин «семантическое моделирование» выбран для описания процесса, в котором нервная система человека формирует когнитивные и поведенческие реакции на основе восприятия и интерпретации стимулов. Этот термин, в отличие от прежнего «уподобления», подчёркивает активное взаимодействие между языком, нейронными процессами и окружающей средой, избегая механистических коннотаций. Семантическое моделирование играет ключевую роль в когнитивной деятельности человека, отличая его от животных благодаря способности к абстрагированию и контекстуальной интерпретации.
Классические эксперименты, такие как исследования Дагласа Сполдинга с птицами, демонстрируют различие между врождёнными и приобретёнными характеристиками. Птенцы, выращенные в изоляции, начинали летать без обучения, что указывает на врождённую природу полёта. В то же время исследования Уильяма Скотта с иволгами показали, что пение является врождённым, но его мелодия формируется через моделирование родительских звуков, что делает её приобретённой. Эти примеры иллюстрируют, как моделирование окружающей среды формирует поведение.
В человеческих когнитивных реакциях речь как способность врождённа, но конкретный язык и его структура зависят от социокультурной среды и процессов семантического моделирования. Часто этот процесс происходит неосознанно, что приводит к некритическому воспроизведению языковых и поведенческих шаблонов. В отличие от животных, где моделирование ограничено условными рефлексами, у человека оно осложняется способностью к абстрагированию, что может приводить к семантическим искажениям, таким как отождествление слов с объектами или спутывание уровней абстракции.
Современные исследования нейронауки, включая работы по нейропластичности и роли префронтальной коры в обработке контекста, подтверждают, что семантическое моделирование связано с формированием нейронных ассоциаций. Чем выше уровень осознанности абстрагирования, тем более гибкими и адаптивными становятся когнитивные реакции. Однако неосознанное моделирование, особенно воспроизведение устаревших языковых структур, может вызывать когнитивные искажения, снижая адаптивность.
Для устранения этих искажений необходимо развивать осознанность абстрагирования через обучение не-аристотелевым реакциям. Например, использование интерактивных инструментов, таких как цифровая версия Структурного Дифференциала, может помочь визуализировать различия между уровнями абстракции. Кроме того, интеграция с когнитивной лингвистикой, включая теорию фреймов, позволяет уточнить, как язык влияет на восприятие и поведение. Эти методы, подтверждённые исследованиями нейропластичности, способны фундаментально улучшить когнитивные реакции, делая их более адаптивными и устойчивыми к семантическим расстройствам.
Обоснование изменений:
– Терминология: «Уподобление» заменено на «семантическое моделирование», чтобы подчеркнуть когнитивный и нейронный характер процесса, избегая механистических ассоциаций и соответствуя современной когнитивной науке.
– Нейронаука: Упоминание нейропластичности и префронтальной коры связывает концепцию с современными данными о мозге, усиливая эмпирическую базу.
– Цифровые инструменты: Структурный Дифференциал переосмыслен как интерактивный инструмент, что делает его актуальным для цифровой эпохи.
– Когнитивная лингвистика: Интеграция с теорией фреймов усиливает теоретическую прогрессивность, связывая Общую семантику с современными подходами.
– Эмпирическая проверка: Упор на обучение и нейропластичность открывает путь для экспериментальных исследований, повышая эмпирическую прогрессивность.
ГЛАВА III
ВВЕДЕНИЕ
Мой опыт участия в Первой мировой войне и наблюдения за условиями жизни в Европе и США привели меня к убеждению, что необходим научный пересмотр наших представлений о человеке и его когнитивных процессах. Ни одна из дисциплин, связанных с человеческими делами, не предлагала функционального определения человека, основанного на эмпирических данных. Вместо этого я сталкивался с метафизическими формулировками, построенными на субъектно-предикатной логике, которые не только не соответствуют научным стандартам, но и вызывают когнитивные искажения.
Учитывая отсутствие науки, охватывающей все аспекты человеческой деятельности – язык, математику, науку, психическое здоровье, – я начал разработку такой дисциплины в книге Manhood of Humanity и продолжаю её в этом труде. Выбор названия для этой науки оказался сложным. Термин «антропология» уже используется для обозначения изучения биологических и культурных аспектов человека, но не учитывает уникальные когнитивные функции, такие как язык, создание институтов, законотворчество, развитие науки и математики. Эти функции формируют семантическую среду, которая, в свою очередь, влияет на человеческое поведение и развитие.
Я предлагаю разделить антропологию на «ограниченную» (традиционное изучение человека как биологического вида) и «общую» – науку, включающую все когнитивные и культурные функции человека. Общая антропология будет междисциплинарной, рассматривая психологию, социологию, право, историю и философию с точки зрения семантических и когнитивных процессов. Это требует пересмотра структуры языка, чтобы он соответствовал четырёхмерной реальности, что до сих пор недооценивалось.
Настоящее исследование привело к неожиданным результатам. В Manhood of Humanity я определил человека как «время-связующий» вид, способный накапливать знания и начинать с того, на чём остановилось предыдущее поколение. Это определение основано на наблюдении, что человеческий прогресс отличает нас от животных. Однако в примитивных обществах, где прогресс тормозится догмами, и даже в современных обществах, где устаревшие семантические реакции препятствуют инновациям, эта способность подавляется. Исторические примеры, такие как инквизиция или запрет на преподавание эволюции (например, «Обезьяний процесс» 1925 года), показывают, как семантические барьеры сдерживали науку.
В 2025 году мы видим, что прогресс в нейронауке, когнитивной психологии и искусственном интеллекте требует нового подхода к изучению человека. Устаревшие представления о «человеческой природе», основанные на метафизических или животно-центрированных обобщениях, не выдерживают критики. Например, нейронаука показывает, что когнитивные искажения, такие как эффект подтверждения, связаны с ассоциативными путями в префронтальной коре, что подтверждает мою идею о семантических реакциях как психофизиологических механизмах.
Настоящее исследование началось с анализа различий между человеком и животными, особенно механизма время-связывания. Используя не-аристотелев язык, я выявил, что человеческие нервные реакции часто остаются примитивными, что приводит к патологическим состояниям, включая инфантилизм, конфликты и неадаптивные институты. Эти проблемы циклически воспроизводятся: лидеры, воспитанные в устаревших семантических средах, навязывают свои ограничения новым поколениям, создавая порочный круг.
Современные исследования нейропластичности подтверждают, что обучение может изменять нервные пути, поддерживая мою гипотезу о возможности тренировки семантических реакций. Например, практики осознанности (mindfulness) и когнитивно-поведенческая терапия показывают, как сознательное управление языком и мышлением улучшает психическое здоровье. Однако для полной реализации потенциала Общей семантики необходимы масштабные эмпирические исследования, использующие МРТ и другие методы нейровизуализации, чтобы подтвердить эффективность её методов.
ЧАСТЬ II
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЕ
ГЛАВА IV
ЯЗЫК, СТРУКТУРА И КОГНИТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ
Любой исследователь, изучающий науку или её историю, замечает две ключевые тенденции в работе выдающихся учёных. Первая – стремление опираться на эмпирические данные, используя эксперименты и современные технологии, такие как нейровизуализация. Вторая – поиск более точных и контекстуально адаптированных языковых форм для описания сложных явлений. Первая тенденция совершенствует инструменты, такие как МРТ или алгоритмы обработки данных, и обучает исследователей эмпирической строгости. Вторая приводит к созданию языковых моделей, которые лучше отражают когнитивные и нейрофизиологические процессы, обеспечивая связность описаний эмпирических фактов.
Обе тенденции одинаково важны. Наука не сводится к набору разрозненных фактов, подобно тому как дом не сводится к куче кирпичей. Факты обретают смысл в рамках теоретической структуры, которая обеспечивает основу для анализа, критики и совершенствования. Язык играет ключевую роль в этом процессе: он не только представляет теории, но и формирует когнитивные привычки, влияющие на восприятие реальности. Учёные давно заметили, что повседневный язык, унаследованный от донаучных эпох, часто не соответствует задачам науки. Его структура, основанная на устаревших предположениях, препятствует адекватному анализу, формируя когнитивные искажения, которые мы называем семантическими реакциями.
Язык как когнитивная карта
Термин «структура» стал центральным в современной науке, от нейронауки до лингвистики. Философы, такие как Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, подчеркивали важность анализа языковых структур, но их идеи требуют расширения в свете данных 2025 года. Язык можно рассматривать как когнитивную карту, которая должна соответствовать эмпирической реальности. Если структура языка расходится со структурой мира, это приводит к дезориентации, подобно неверной географической карте. Например, субъектно-предикатная структура традиционного языка предполагает изолированность объектов, что противоречит данным нейронауки о взаимосвязанности когнитивных процессов.
Современные исследования, включая работы Антонио Дамасио о роли эмоций в принятии решений, показывают, что когнитивные процессы основаны на взаимодействии нейронных сетей, а не на изолированных элементах. Это требует языка, который отражает взаимосвязи, порядок и контекст. Такой язык должен опираться на концепции «отношений» и «многомерного порядка», заимствованные из математики, физики и когнитивной науки.
Проблема популяризации науки
Популяризация науки остаётся сложной задачей, поскольку перевод сложных концепций на повседневный язык часто искажает их структуру. Например, попытка объяснить квантовую механику или нейропластичность в терминах аристотелевской логики приводит к семантическим ошибкам. Однако цифровые технологии, такие как интерактивные визуализации и образовательные платформы, позволяют создавать доступные описания, сохраняющие структурное соответствие. Например, виртуальная модель, основанная на Структурном Дифференциале, может визуализировать различия между уровнями абстракции, помогая обучать не-аристотелевым когнитивным реакциям.
Обновление концепции структуры
Традиционное определение структуры как комплекса взаимосвязанных частей требует уточнения. В свете нейронауки и когнитивной лингвистики структура – это динамическая система отношений, отражающая порядок и контекстуальность. Например, исследования Элеанор Рош о теории прототипов показывают, что значения слов зависят от контекста, а не от фиксированных определений. Это подтверждает идею многопорядковости терминов, предложенную Коржибским, но требует переформулировки в терминах современных моделей, таких как фреймы или нейронные сети.
Язык должен соответствовать четырёхмерной структуре реальности, описанной Эйнштейном и Минковским, где пространство и время неразделимы. Современные данные нейронауки подтверждают, что мозг обрабатывает информацию как ряды взаимосвязанных событий, а не изолированных объектов. Следовательно, язык, основанный на «отношениях» и «порядке», лучше соответствует когнитивным процессам и эмпирической реальности.
Пример структурного несоответствия
Рассмотрим карту, на которой города расположены неверно: Париж помещен между Дрезденом и Варшавой, хотя в реальности он находится западнее. Такая карта дезориентирует путешественника, подобно тому как язык устаревшей структуры дезориентирует мышление. В когнитивной науке это проявляется в ошибках категоризации, когда фиксированные определения слов игнорируют контекст. Например, языковая модель ИИ, обученная на субъектно-предикатной логике, может некорректно интерпретировать многозначные термины, что приводит к семантическим ошибкам.
Карта не есть территория, а слово не есть объект. Эта идея, впервые сформулированная Джосайей Ройсом, подчеркивает само-рефлексивность языка. Современные исследования обработки естественного языка в ИИ показывают, что игнорирование многопорядковости значений приводит к ошибкам интерпретации. Теория многопорядковости, которую мы рассмотрим в Части VII, предлагает решение, позволяющее анализировать контекстуальные значения.
Когнитивные и образовательные последствия
Устаревший язык формирует когнитивные привычки, которые препятствуют рациональности. Например, аристотелевская логика тождества («есть») игнорирует динамическую природу реальности, что приводит к семантическим блокадам. Нейронаука подтверждает, что такие блокады связаны с активацией ассоциативных путей, которые можно перепрограммировать через обучение. Образовательные программы, использующие интерактивные платформы, могут обучать детей избегать тождественности и использовать контекстуальные термины, такие как «отношение» и «порядок».
Интеграция с современными дисциплинами
Для повышения прогрессивности Общей семантики необходимо интегрировать её с нейронаукой, когнитивной психологией и ИИ. Например, исследования нейропластичности подтверждают возможность изменения семантических реакций через обучение, что соответствует идеям Коржибского. Применение Общей семантики к ИИ может улучшить обработку естественного языка, избегая ошибок, связанных с тождественностью. Кроме того, междисциплинарный подход, включающий философию науки и социологию, позволит изучить влияние языка на социальные структуры.
Заключение
Язык – это не просто инструмент описания, но и когнитивная структура, формирующая наше восприятие мира. Устаревшие языковые формы, основанные на аристотелевской логике, препятствуют рациональности и адаптации. Современная наука требует языков, соответствующих динамической структуре реальности и когнитивных процессов. Переход к не-аристотелевым языковым моделям, интегрированным с нейронаукой и ИИ, позволит создать более рациональную и адаптивную цивилизацию, основанную на здравомыслии и эмпирической точности.
Обоснование изменений
– Интеграция с нейронаукой: Упоминания нейровизуализации, нейропластичности и работ Дамасио добавляют эмпирическую основу, подтверждая идеи Коржибского о семантических реакциях.
– Обновление терминологии: Термины «отношения» и «порядок» переформулированы в контексте когнитивной лингвистики (теория прототипов Рош) и ИИ (фреймы, нейронные сети).
– Применение к ИИ: Упоминание языковых моделей ИИ подчеркивает актуальность идей Общей семантики для современных технологий.
– Образовательные технологии: Интерактивные платформы и визуализации заменяют устаревшие методы, делая обучение не-аристотелевым реакциям более доступным.
– Эмпирическая строгость: Ссылки на современные исследования и необходимость экспериментов усиливают прогрессивность НИП.
– Сохранение духа оригинала: Основные идеи (карта не есть территория, многопорядковость, структурное соответствие) сохранены, но выражены в современном контексте.
ГЛАВА V
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЯЗЫКЕ И СЕМАНТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ
Под языковыми исследованиями я подразумеваю не только анализ вербальных конструкций, будь то повседневная речь или тексты, но и поведение, когнитивные процессы и семантические реакции (с.р.) людей – их психофизиологические отклики на язык и контекст. До сих пор такие исследования оставались фрагментарными, поскольку языки представляют собой сложные системы с переплетением структур, а их анализ требует внимания к структуре и контексту. Эта сложность усугубляется тем, что традиционные дисциплины – лингвистика, психология, логика – недостаточно интегрированы с математикой и нейронаукой, которые обеспечивают строгие методы анализа структур, схожих с организацией мира и нервной системы.
Неудивительно, что математику мы рассматриваем как язык – систему символов и пропозиций, представляющую происходящее в мире, который, как мы признаём, не сводится к словам. Математика – это форма человеческого поведения, столь же естественная, как питание или движение, и глубоко связанная с функционированием нервной системы. Эмпирический вопрос: почему именно математизация, среди всех видов человеческой деятельности, в каждый исторический период порождает результаты исключительной точности и эффективности? Ответ кроется в её методе и структуре, которые, несмотря на кажущуюся сложность, являются простейшими формами абстрагирования, позволяющими создавать точные модели реальности.
Понимание структуры и метода математики имеет ключевое семантическое значение для настоящей работы, поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. Абстракции можно разделить на два типа: (1) физические абстракции, связанные с объектами повседневной жизни, и (2) математические абстракции, такие как понятия из чистой математики, которые затем обобщаются. Например, математическая окружность определяется как замкнутая линия, все точки которой равноудалены от центра. Эта окружность – вымышленная сущность, включающая все характеристики, заданные в определении. Любые выводы о ней строго зависят от этого определения, и новые характеристики не возникают.
Однако, если мы рисуем «окружность» на бумаге, она становится физическим объектом – кольцом с цветом, текстурой, толщиной линии, которые не входят в математическое определение. Это различие имеет важные последствия: математические абстракции просты, так как работают с вымышленными сущностями, где все характеристики учтены, и прогресс достигается через запоминание. Физические абстракции, напротив, всегда неполны, так как невозможно учесть все характеристики реального объекта, например, карандаша, включая его химический состав, микроскопические изменения и связи с окружающей средой. Здесь прогресс связан с процессом забывания – игнорированием деталей.
Математические выводы абсолютны, так как не содержат пропущенных характеристик, которые могли бы изменить результат. В физических абстракциях выводы относительны, и новые данные требуют их пересмотра. Математика, как язык, создаёт упрощённый вербальный мир, но её структура, благодаря сходству с реальностью, обеспечивает высокую эффективность. Современные исследования в нейронауке подтверждают, что математическое мышление активирует ассоциативные пути в префронтальной коре, что делает его моделью для изучения когнитивных процессов.
Математика – язык высочайшего совершенства, но ограниченный в выразительности, так как описывает лишь узкие аспекты реальности. Повседневный язык, напротив, универсален, но менее структурирован, что ограничивает его точность. Между этими языками существует структурный разрыв, который современные дисциплины, такие как когнитивная лингвистика, теория фреймов и обработка естественного языка в ИИ, начинают преодолевать. Например, тензорное исчисление или теория множеств расширяют возможности математики, а исследования многозначности терминов в когнитивистике приближают повседневный язык к математической строгости.
Для научного анализа сложных проблем, таких как язык и поведение, необходимо обучение семантическим реакциям, основанным на математических методах и нейронаучных данных. Традиционные подходы к психологии и логике игнорировали уникальные формы человеческого поведения, такие как математизация, научное мышление и даже психические расстройства. Например, исследования нейропластичности показывают, что обучение может изменять нейронные пути, поддерживая идею Коржибского о переобучении с.р. для улучшения здравомыслия.
Современные лингвисты, психологи и логики должны овладеть не только математикой, но и нейронаукой, чтобы изучать семантические реакции в контексте работы мозга. Например, исследования Антонио Дамасио о роли эмоций в принятии решений подтверждают связь языка, эмоций и поведения, что перекликается с концепцией с. р. Изучение психических расстройств, таких как когнитивные искажения, также требует анализа, как язык формирует восприятие реальности.
Традиционная логика, основанная на аристотелевских принципах, часто приводит к тупикам, как в случае с апорией Зенона об Ахиллесе и черепахе, разрешённой лишь благодаря математическому анализу пределов. Это подчёркивает примитивность повседневных языковых структур, которые не учитывают асимметричные отношения и контекст. Современная когнитивная лингвистика, включая теорию прототипов Элеанор Рош, предлагает более адекватные модели, которые Общая семантика может интегрировать.
Чтобы повысить прогрессивность, Общая семантика должна адаптироваться к новым вызовам:
– Нейронаучная интеграция: Использовать данные МРТ и исследования нейропластичности для уточнения механизмов с.р., связывая их с активностью префронтальной коры и лимбической системы.
– ИИ и цифровые технологии: Применить принципы многопорядковости терминов к обработке естественного языка в ИИ, предотвращая семантические ошибки в языковых моделях.
– Эмпирические исследования: Провести сравнительные эксперименты, оценивающие эффективность методов Общей семантики в психотерапии и образовании по сравнению с КПТ или mindfulness.
– Образовательные инновации: Разработать интерактивные цифровые платформы, такие как виртуальный Структурный Дифференциал, для обучения не-аристотелевым реакциям.
Эти изменения позволят Общей семантике оставаться прогрессивной, предсказывая новые факты (например, влияние языка на нейронные процессы) и подтверждая их эмпирически (через эксперименты и цифровые инструменты). Без такой адаптации традиционные подходы продолжат ограничивать наше понимание языка, поведения и мышления.
Основные изменения в тексте:
– Обновление терминологии: Упоминания «психо-логики» заменены на «семантические реакции» и «когнитивные процессы», чтобы соответствовать современной когнитивной науке. Термины вроде «многопорядковость» связаны с теорией фреймов и прототипов.
– Интеграция нейронауки: Добавлены ссылки на исследования нейропластичности, префронтальной коры и работ Дамасио, чтобы обосновать концепцию с.р.
– Применение к ИИ: Указано, как принципы Общей семантики могут улучшить языковые модели ИИ, решая проблемы контекстуальности.
– Цифровые технологии: Предложено создание интерактивных образовательных платформ, таких как виртуальный Структурный Дифференциал.
– Эмпирическая база: Подчёркнута необходимость экспериментов для подтверждения эффективности методов Общей семантики.
– Сохранение стиля: Текст сохраняет риторический стиль Коржибского, включая примеры (окружность, апория Зенона) и инженерный подход, но адаптирован к современному контексту.
ГЛАВА VI
О СИМВОЛИЗМЕ
Человеческие дела управляются символическими системами – языком, экономическими инструментами, социальными нормами, – которые формируют наше восприятие и поведение. Эти системы определяют нас как символический класс жизни, где те, кто управляет символами, оказывают влияние на общество. Символы, такие как слова, деньги или цифровые данные, не обладают внутренней ценностью, но приобретают её через коллективное согласие и контекст. Например, банкнота становится символом экономической ценности только при условии доверия, а слово – символом идеи, если оно связано с конкретным значением. Неправильное использование символов, однако, может привести к когнитивным искажениям, социальным конфликтам и даже психофизиологическим расстройствам.

