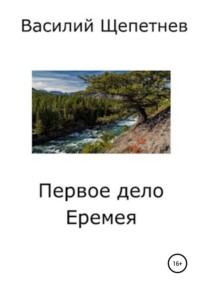Полная версия
Марс, 1939
– Значит, вы не собираетесь что-либо предпринимать, сэр? Должен заметить, что сведения о намечаемой акции в Нью-Йорке мы получили и из традиционных источников.
– Я не говорю, что такой акции не может быть вовсе. Авантюристов предостаточно. Вывести из строя передатчик на Эмпайр-стейт-билдинге – заманчивая цель для какого-нибудь лунатика. Что ж, в этом случае предложение нашей парочки имеет смысл.
– Может быть, стоит принять дополнительные меры?
– Разумеется. Пусть этим займутся в Пентагоне – поднимут в воздух противолодочные дирижабли, бомбят все подозрительные цели, устроят учебную тревогу, ну и остальное, что полагается. Да, и пусть сегодня ньюйоркцы поскучают без радио. Профилактические работы, придумайте сами.
– Да, сэр.
– Выше голову, Хейз! В конце концов, сегодня мы сэкономили налогоплательщикам пятнадцать миллионов долларов. Не так уж плохо, верно?
20– Дюжина пластинок. – Константин с гордостью протягивал стопку кассет. Ни одной пластинки не испортил, все удалось с первого раза.
Он особенно радовался, когда получалось что-то сделанное собственными руками, и получалось хорошо. Впрочем, удивляться нечему. Оборудована лаборатория у принца добротно, и он выполнял процедуру нанесения эмульсии на пластины почти автоматически, думая только, зачем это все Петру Александровичу нужно. Фотопластины с новой эмульсией, теперь еще Лейба с волшебной лампой. Одно с другим, вообще-то, вяжется: подсвечивать невидимыми лучами и фотографировать. Нужно срочно брать патент на эмульсию, такую, какая есть. Шпионские фотографии. Или прожектор невидимых лучей установить на цеппелине и снимать, снимать… Но зачем пластины сегодня? Лампы-то нет. А вдруг принц Ольденбургский – немецкий шпион и образцы эмульсии передаст по ту сторону фронта? Полная, совершенная ерунда лезла в голову. Просто – причуды стариковские. Никакого сумасшествия, разумеется, просто обыватель не любит, когда кто-то непохож на него самого. Границу нормальности обыватель проводит в непосредственной близости от себя.
– Я хочу сфотографировать звезды. – Отвечая на невысказанный вопрос, принц аккуратно складывал пластины в специальный сак. – Есть красные звезды, почему бы не быть и черным? Я тебе не показывал – этой весной я приобрел десятидюймовый рефлектор ньютоновской системы. Он не здесь, в Ольгино. Купол поставил небольшой, часовой механизм. Не Пулково, конечно, но, если дело пойдет, я в нашем имении в Гаграх, поближе к низким широтам, построю настоящую обсерваторию. Или, – он усмехнулся, – на новых землях.
– Астрономия? Я не думал об этой области применения эмульсии. Замечательная идея, – сказал с воодушевлением Константин.
Воодушевление было несколько нарочитым, но все-таки… Звезды – это объяснимо. Раньше у принца тоже был телескоп, не десятидюймовый, а поменьше, любительский, на массивной треноге, с объективом-линзой, он помнит, как впервые увидел огромную Луну, испещренную кратерами, кольца Сатурна, мириады звезд Млечного Пути. Казалось, век не налюбуешься. Но в городе с его вечно блеклым небом фантазии насчет ночей звездочета забывались. Многое забывалось.
– Время позднее. Ты, полагаю, устал? – Принц не спрашивал – утверждал. – Отдыхай. Генрих говорит, ты спозаранку ему рыбалку обещал?
– Обещал. – Константину завтрашняя рыбалка казалась уже лишней, но слово есть слово. – Утро теперь позднее, не июнь. Половим рыбку, не опоздаем.
– Надеюсь. Давно не ел казацкой ухи. Ах, досадно, – принц с огорчением посмотрел на часы. – Мы тут обо всем забыли.
– О чем? – Константин недоуменно смотрел на Петра Александровича. Никаких дел на нынешний вечер сегодня не планировалось. Ни игр на свежем воздухе, ни шарад, ни постановки живых картин. Все осталось далеко-далеко.
– Сегодня же Вабилова награждают. Нет, никак не успели, пропустили безнадежно.
– Завтра в газетах прочитаем. – Константину стало совестно. Вот Петр Александрович, немолодой человек, а радуется за Вабилова, гордится, а он? Завистлив, завистлив человек, он и вспомнив стал бы включать радиоприемник, нет – вопрос.
– Газеты… Газеты напишут…
Константин разделял нелюбовь принца к нынешней прессе. Сплошной официоз, ни одного живого слова. Величие русской души, миссия освобождения славян, благоденствие народа при неусыпном попечительстве мудрой власти. Победные реляции с фронтов. И о погоде. О погоде тоже врали безбожно, но без той угодливости и раболепия, как об остальном. Менее гнусно.
– Ее, наверное, на граммофон записали, речь. Услышим, думаю. И синема – хроника…
– Консервированные новости. – Принц закрыл сак. – Ты иди, что тебе меня ждать. Я, может, совсем эту ночь спать не стану. Значит, проявить пластины следует до завтрашнего полудня?
– Чем скорее, тем лучше. Раствор для проявления я приготовил, он двойного действия – сразу и фиксирует. На десять минут нужно погрузить пластинку.
– Я помню, Константин, спасибо. – Принц составил точную, по пунктам, инструкцию для себя. Много, много на небе звезд. Довольно и для черных, невидимых. Опять же, пылевые туманности…
– Реактивов хватит на двадцать дюжин. Экономить бессмысленно, даже и в сухом виде храниться долго не сможет – месяц максимум.
– Месяц – срок большой. Ну, хорошо. Ты порыбачь, отдохни, думаю, сейчас здесь куда безопаснее, чем в столицах.
– Безопаснее?
– Ты, похоже, и позабыл, что идет война.
– Я не совсем вас понимаю, Петр Александрович, война войной, но – столицы? У Коминтерна практически нет воздушного флота, и бомбежек больше не боятся самые опасливые старушки.
– То старушки. Члены Государственного совета покинули Москву – тебе это ни о чем не говорит?
Вот они, телефонные переговоры.
– Не в первый раз.
– Да? Когда же еще совет радовал москвичей своим отсутствием?
– Ну, кажется…
– Четыре года назад, во время рейда Красной армады.
– Но ведь с тех пор воздушный флот Коминтерна так и не сумел восстановиться. Чего же бояться сейчас?
Принц посмотрел, словно раздумывая – говорить, нет, затем все-таки сказал:
– Принято решение – выполнить союзнические обязательства перед Японией и начать войну против Соединенных Штатов Северной Америки. В самое ближайшее время. Возможно, в ближайшие сутки.
Константин ошеломленно смотрел на Петра Александровича. Оснований сомневаться в правдивости слов принца не было ни малейших – но опять воевать на два фронта? Покончили, насколько это вообще возможно, с гоминьдановским Китаем, а теперь – Америка?
– Такие пироги, Константин.
Если принц прибегал к простонародным оборотам, значит сердится не на шутку. Причины веские: мало того что царская семья фактически отстранена от правления, вчерашние охотнорядцы объявлены солью нации и упразднены политические свободы, перечеркнув Манифест Николая Второго, так извольте получить новую войну.
– Возможны налеты?
– Воздушный флот американцев не чета германскому. Последние конструкции цеппелинов летят на высоте пятнадцати верст, поди достань. Твои маски, конечно, штука неплохая, но, если они распылят над Москвой тысячу пудов своего нового газа, спасет разве водолазный скафандр.
– Я не понимаю, дядюшка, как вы можете заниматься вашей астрономией, когда…
– Когда что, Константин? Я живу, вернее, доживаю отпущенный мне срок. Режима не принимаю, не поддерживаю, войну не люблю. Сижу здесь, в глуши. Участвовать в заговорах? Увольте. Заговорщиков хватает и без меня, но менять одну свору на другую? Страна больна, согласен, но следует предоставить процессу развиваться естественным путем. Достанет сил России – выздоровеет, нет – пал Рим, пала Византия, знать, и наш черед. Так что позволь мне заниматься вечным. – Свою тираду принц произнес не гневно, скорее удрученно, противореча сам себе. Явно подавлен.
– Я… Я ничего.
– Хорошо, оставим. Может быть, обойдется грозными заявлениями. – Но видно было, что принц говорит это без надежды, просто из правил приличия. Соломинка утопающему.
– Я пойду, Петр Александрович.
– Да, поздно, поздно… – Принц рассеянно играл ручкой сака. Торопится проводить свои эксперименты. Константин позавидовал: увлеченность отвлекала от многого.
Луна, показываясь в просветах облаков, превращала английский парк дворца в декорацию какой-нибудь любовной грезы – признания, вздохи, объятия; жаль, соловьи в сентябре не поют. Никто не поет, даже деревенские петухи смотрят птичьи сны.
Куранты на башне отбили одиннадцать часов. В провинции, особенно в провинции патриархальной, укладывались рано, это в Москве, в Питере разгар светской жизни. Константин немного побродил по саду, но луна норовила укрыться за тучей надолго, и пришлось идти к себе, в «свитские номера».
Его встретила «Песня Сольвейг», фройляйн Лотта, оправившись от мигрени, музицировала в гостиной. Играла она, восполняя пробелы техники, душой; что это значило, Константин не понимал, но так было принято говорить, когда не хотели обижать исполнителя. Да и откуда техника? Нет ни учителя, ни ценителей. Инструмент, впрочем, был хороший и поддерживался в приличном состоянии, что редкость в нынешние времена. Баронесса приветствовала его любезным наклоном головы, а Лотта, прекратив играть, поздоровалась, как это стало модным, по-мужски крепко пожав руку (и при этом очаровательно покраснев). Видно, кто-то донес сюда из столиц плоды эмансипации.
– Вам, наверное, мешает музыка?
– Нисколько, напротив, очень приятно.
Он из вежливости посидел четверть часика, а потом, пожелав спокойной ночи, поднялся к себе. Действительно, дом был выстроен отменно, и в своих комнатах рояля почти не было слышно. За письменным столом Ипатыч поставил старый «ремингтон» и стопку бумаги. Совсем как в прежние времена, когда он мнил себя талантливым литератором, писал помногу, по роману за лето, издал четыре. Первый раскупили, второй заметила критика, а один маститый, а главное, любимый писатель прилюдно похвалил, но третий и четвертый провалились совершенно. Тогда он был молод и легко принял решение – если не лучший, то никакой.
Константин сел, несколько раз ударил по клавишам. Подавались они с трудом, заедали. Надобно почистить, смазать. Где-то был и другой «ремингтон», с латинским шрифтом, он печатал на нем рефераты, взятые на лето, когда учился в Кембридже. Химик пересилил литератора. Не ту машинку поставил Ипатыч. Или он выбрал не тот путь? Вечер располагал к философским размышлениям: луна, отдаленные звуки рояля и… Он заглянул в шкапик: так и есть, шотландский виски, его любимый сорт. Ночной колпак, чтобы слаще спалось. Из окна был виден дворец. Пару раз, уже после смерти Карла, принц предлагал ему жить там, но Константин отказывался, а потом больше и не предлагали. Ему и здесь неплохо. Не то чтобы было неловко перед принцессой, она ему благоволила, вероятно, в память о сыне, с Карлом они были близкими друзьями, какими бывают только в юности, искренними и бескорыстными, но – зачем? Тогда еще у принца была идея официально усыновить Константина, в этом не было бы ничего удивительного, собственные его родители давно умерли – отец во время Англо-бурской войны, волонтер, воевал на стороне англичан, что было странно, сочувствовали бурам, мать – во время покушения на великого князя Михаила в четырнадцатом году, адская машина, семьдесят шесть погибших, памятник в Калуге. На усыновление он не согласился, хотя знал, что настоящий его отец – принц Петр, но влезать в семью через запасной вход не хотел, считал зазорным. Мы уж как-нибудь сами. Двойственность положения сопровождала всю жизнь, он привык, перестал ее замечать, а вслед за ним перестали замечать и другие. Вот разве баронесса… Пожалуй, она пришла к выводу, что он – достойная партия дочери. Нужно, нужно уезжать. Новые газы… Скафандр… Пожалуй, цветной фотографии придется подождать. Формулу газов он знал и даже синтезировал нейтрализующий раствор. Вот если сделать его стойким, не раздражающим кожу и пропитать одежду… Карандашом он записал идею на бумаге, вечерние идеи, ночные идеи наутро часто оказывались ерундой, вот утром и обдумает.
С новым стаканчиком виски он постоял у окна. Небо окончательно заволокло; похоже, фотографировать звезды нынче не придется, зря он разводил эмульсию, готовил пластинки, все пропадет. Ноги овевало холодом, ночами выстывало, конец сентября, и Константин чувствовал, что, как давеча, покрывается гусиной кожей. Он поспешил в постель, лег, укрылся даже с головой, но никак не мог согреться – казалось, что не от холода он мерзнет вовсе, а от чего-то иного, и не помогут ни виски, ни одеяло, ничего.
21– Я расставил дополнительные посты, государь. – Капитан морских пехотинцев выглядел озадаченным: впервые на его памяти Алексей потребовал усилить охрану. Раньше наоборот – постоянное желание сократить караулы, убрать часовых, ограничась церемониальным минимумом.
– Ответьте мне искренне: насколько надежна вся система охраны? Можно ли вообще быть уверенным в безопасности Летнего дворца? – Алексей не выглядел испуганным, просто – серьезным.
– Видите ли, государь, охрана цивильных объектов во многом зависима от э-э… самих объектов.
– То есть от меня?
– И всех остальных членов императорской фамилии. Каждый выезд за пределы дворца, особенно незапланированный, прибавляет седых волос каждому усердному слуге Государя.
– Но здесь, на территории дворца?
– Ни один бомбист сюда проникнуть не может. Штурмовать – при всех недостатках дворца как оборонного сооружения – понадобился бы минимум батальон для его захвата, и это при условии, что подмога будет слепа и глуха к нашим призывам о помощи. В противном случае она прибудет менее чем через час из Зарядьевских казарм, а час, государь, мы выстоим.
– Хорошо, хорошо. – Охрана всегда неодобрительно относилась к легкомысленной, по ее мнению, постройке – дерево и дерево. То, что территория была обнесена четырехметровой бетонной стеной, наподобие великой китайской, слабо утешало бравых пехотинцев.
– Но, государь, я должен спросить… Ваш интерес – он вызван определенными обстоятельствами, или это…
– Это просто беспокойство… Ничего определенного, никаких фактов. Беспокойство.
– Осмелюсь посоветовать вам, государь, затребовать для охраны егерский отряд.
– Егерский отряд? Разве моих пехотинцев недостаточно?
– Морская пехота отдаст за вас, государь, всю кровь, до последней капли, – несколько высокопарно ответил капитан, впрочем, он имел на это право – трое пехотинцев погибло, а более десяти было ранено, включая капитана во время инцидента двадцать девятого года. – Но должен признать, я бы чувствовал себя увереннее, если бы удалось осуществить круглосуточное патрулирование прилегающего ко дворцу леса. Я уже имел случай предлагать это вашему императорскому величеству, но тогда вы отвергли мое предложение.
– Егерский отряд? Может быть, потом. Сейчас же, капитан, у меня есть для вас иное, более спешное поручение. Я – моя семья – завтра утром покинем дворец.
– Прикажете подать императорский поезд?
– Нет, мы едем не в Первопрестольную. В Крым, в Севастополь.
– Будет очень сложно организовать зеленый путь, государь. – Капитан не выказал удивления, напротив, казалось, он ожидал такого решения.
– Поэтому, капитан, мы не поедем нашим поездом. Распорядитесь, чтобы к регулярному скорому прицепили три вагона, – думаю, этого будет достаточно.
– Будет исполнено, государь.
Капитан ушел – озадаченный или окрыленный, Алексей не мог понять наверное. Скорее, и то и другое. И третье. Многие завтра будут в схожем состоянии. Не так уж, собственно, важно, верно или не верно предположение дядюшки Вилли о покушении. Просто пришло время делать дело.
Алексей чувствовал себя возбужденным – пожалуй, возбужденным излишне. Силы не в день растратить нужно, попридержим лошадушек. За сегодня он успел переговорить с Черноморским и Балтийским флотами – хорошо, во дворце есть свой радиоаппарат; набросал вчерне текст манифеста, который объявит там, в Севастополе, на борту «Императрицы Марии». Если сенат обнародует свое решение раньше, то самое решение, о котором сообщил представитель сената сегодня, тем лучше для сената. Во всяком случае, для сенаторов. Сенат будет распущен манифестом, но каждый сенатор станет бароном.
Флот полностью на его стороне. Армия… Что ж, старые офицеры – лучшие офицеры! – никогда не любили нынешних. Армия даст ему Германию, он армии – мирный договор. Коминтерн, потеряв Германию, этот договор подпишет, еще и репарации оплатит, лишь бы живота не лишиться, Австро-Венгрии.
Он потянулся в кресле. Нога на скамеечке, нарочно для того поставленной внизу, слегка припухла, но самую малость. Искать подосланных убийц – что может быть желаннее для его врагов? Если не подозреваешь никого, значит подозреваешь каждого – доктора, вдруг в мазь добавит яду, повара, лакея, жену, охранника, дядю Вилли, свою собственную тень. Строить Инженерные замки – пустое занятие, за стенами не отсидеться. Единственное, что может помочь, – сделать его смерть для врагов страшнее его жизни. Хорошо было фараонам – умирали они и забирали с собой в гробницу преданных министров, жен и слуг. Цинь Ши Хуан Ди. Могила могил, восемьсот приближенных.
Он содрогнулся от отвращения. Придут же, право, в голову мысли…
Зазвенел тонко комар, явно очерчивая пределы любой власти, – вот я каков, поди возьми за пятак! Никакая морская пехота не оборет! Время отдохнуть, всего не одолеть разом.
Алексей покинул кабинет; вечером во дворце становилось тихо, он так любил. Зашел в покои императрицы. Мария сидела у лампы, гусиным пером черкая что-то по бумаге; он на цыпочках вышел. Дамской поэзии не понимал, впрочем, как и мужской, но критики о Морозовой отзывались лестно, даже явные германофобы (особенно они! «Только истинно русская душа может понять красоту слова простой русской женщины, сумевшей выразить в своих творениях…» и т. д. и т. п.), что подтверждало надежность псевдонима.
Сашеньку укладывали. Алексей не стал его разгуливать, поцеловал на ночь и ушел. Так и придется вечер одному коротать? Зашел в учебную залу, покрутил глобус. Велика, велика Россия. Новая часть света, седьмая, эко выдумали. Рановато претендовать на географическую исключительность. Может, и седьмая, да не света, а тьмы. Темно кругом. В душах. И в его душе тоже.
Сейчас он почувствовал, что утомился. Захотелось принять успокоительную хвойную ванну и спать. Он переборол себя, знал, не уснет, только изведется, ворочаясь до полуночи и дальше. Пусть вечер идет своим чередом.
Светильники на террасе горели приглушенно; мошка, бабочки вились вокруг, назойливо стараясь показаться. Другой цели у них вроде и нет.
В музыкальной гостиной он увидел маркиза Бови. Тот сидел у нотного столика, что-то записывая в толстую тетрадь коленкорового переплета. Заметив Алексея, он вскочил, тетрадь с колен упала на пол.
– Добрый вечер, маркиз. – Алексей наклонился, поднял тетрадь и передал ее Бови. – Сегодня все пишут. Даже я. Нашли что-нибудь любопытное?
– Исключительное, ваше императорское величество! Там же, в той книге, – (Алексей заметил, что маркизу не захотелось назвать книгу), – я обнаружил лист с пометками – вот он, я перерисовал буквы. Это, похоже, перевод на русский?
– Церковнославянский.
– Вы не могли бы прочитать? Как это звучит?
– Попробовать можно, но получится ли? Эти слова лишены смысла. Кто-то, может быть сам Иоанн Четвертый, искал верный способ произнести заклинание.
– Да, я так и предполагал. – Маркиз оправился от смущения, сейчас он был с императором на равных. Вернее, он был не с императором, а с коллегой. И славно, подумалось Алексею. – Но для чего? Латынь сама по себе довольно верно воспроизводит звуки.
– До некоторой степени. Полноценного фонетического языка не существует. Не все, конечно, схожи с английским, но искажения присутствуют в каждом из них.
– Но для чего было переводить на… на церковнославянский? Это лишь увеличивает степень искажений.
– Вам, маркиз, нужно поговорить на эту тему с нашими академиками, Павловым и Юнгом. У нас как-то занятный вышел вечерок однажды, мы спорили обо всех этих заклинаниях, магических словах, колдовских заговорах. Господин Юнг считает, что заклинания – вроде кодовой фразы. Знаете, можно человека загипнотизировать, выучить чему-нибудь, например стенографии, но вне гипноза он эту возможность теряет. А ключевая фраза позволяет восстановить навыки, вспомнить, чему обучили под гипнозом. Академик Павлов подобным образом излечил человека с истерической слепотой, случай описан в «Вестнике нейрофизиологии».
– Я не вполне улавливаю связь…
– Юнг предполагает, что человечество как единое целое тоже в определенном смысле страдает истерической слепотой. А заклинание, как ключевое слово, способно на какое-то время снять пелену с глаз. Родовое подсознание, единое для всех.
– И они… пробовали?
– Насколько я знаю, нет. Это ведь так, игра ума, безумные идеи.
– Но все же зачем было переводить с латыни?
– Для того чтобы заклинание испытал другой человек, с латынью незнакомый. Мало ли, произнесешь, а вместо второго зрения и первое откажет. Жрецы свои тайны берегли. Так что – берегитесь, – шутливо предостерег Алексей.
– Вы полагаете, все это – ерунда? – Маркиз уловил настроение собеседника.
– Для тех, кто верит, возможно, и нет. Самовнушение, самогипноз… Знаете, маркиз, я и к обычному гипнозу подозрительно отношусь, кажется – надувают шарлатаны. – Алексей рассмеялся. – Хотя, возможно, я просто ограничен и не способен воспринять новые идеи. Но пытаюсь, даю слово, пытаюсь. – Он вспомнил о поручении отцу Афанасию. Антарктида…
– Есть многое на свете, писал Вильям Шекспир. И многое есть во тьме. – Маркиз закрыл свою тетрадь. – С вашего позволения, я сошлюсь на наш разговор, когда обращусь к господам Павлову и Юнгу.
– Разумеется, маркиз, – согласился Алексей. – А пока не составите ли компанию? Ужасно не хочется чаевничать одному.
– Чаевничать?
– Пить чай. На западной террасе место просто заколдованное – никогда не бывает комаров. Радио послушаем. Идемте, а то самовар стынет. – И он вышел из светлой гостиной навстречу тьме.
22Потолок уходил ввысь, даже не потолок, а своды, мощные, могучие, каменные, но Вабилов не чувствовал простора, – напротив, казалось, что камень рухнет, задавит.
Ничего, простояла ратуша сколько-то веков (эстонцы любят точность), простоит и сегодня.
Он оглядел зал – поверх бумаг, его речи, четыре машинописных листка, которые Вабилов с профессорской неловкостью устраивал на пюпитре. Принц Улаф, члены Нобелевского комитета, магистрат, дипломаты и даже свой брат ученый – из Юрьева, Упсалы, Пастеровского института и даже, кажется, из Торонто.
Речь. Знаменитая нобелевская речь. Прямая трансляция из зала ратуши. На волне две тысячи четырнадцать метров. Рядом с микрофоном загорелась красная лампочка. Эфир открыт.
Он испугался – свои слова исчезли, спрятались в порыве благоразумия. Как просто – отчитать написанное, выверенное и одобренное.
Лампочка замигала, торопя.
– Коллеги! Сегодня мой день. Мой. Я шел к нему много лет, теряя по пути воздушные невесомые иллюзии и обретая факты. Первосортные полновесные факты. Аксиома – ученые работают во имя прогресса. Цель науки – всемирный прогресс. – Волнение ушло, лишь эхом отдавались слова в голове. – Стало меньше болезней. Сникла трахома. Исчезла черная оспа. Кто-нибудь видел в этом году оспу, а? Пусто стало в природе, господа. Пусто. А она этого не любит. И не терпит. Как сказал гениальный Ломоносов, сколько чего отнимется в одном месте, столько прибавится в другом. Гони натуру в дверь – она вернется в окно. А если окна нет, мы его прорубим. Мы – ученые. Служители прогресса. А что есть движитель прогресса? Война! Моя страна воюет, отстаивая свободу всего мира, отстаивая высокие идеалы человечества. Огнем, свинцом, газами. Только этого мало. Микробы, крохотные, невидимые, не оставляющие после себя разрухи, не портящие движимое и недвижимое имущество, – вот то, что надо. Экономно. Культурно. Гигиенично. Одна беда – нет в природе таких микробов. Чума, холера, сибирка, желтая лихорадка – укрощены. Всем детишкам делают прививки от туберкулеза. Ну, и заодно нагружаем защитой от вышеперечисленной четверки. Я думаю, мы не одни такие умные. А, коллеги? – (Все-таки перебор с коллегами. Хотя легкий юмор в нобелевской речи – традиция давняя.) – Так вот, если укрощены свирепые болезни, нельзя ли раздразнить привычные, обыденные, те, с которыми мы живем почти мирно. Всякие там чирьи, заеды, угри, с которыми бабушки наши управлялись печеным луком? Сложная задача? Сложная. Но прогресс! – (Слово отозвалось в голове свистом серпентария – прогрессс.) – Наука умеет многое. И ей это удалось. Нам удалось. Мне. Удалось банальный гноеродный микроб стрептококк сделать неукротимым, свирепым, бешеным. Достаточно грошовым пульверизатором разбрызгать десять граммов культуры в этом славном древнем зале – и к завтрашнему вечеру присутствующие будут представлять собой куски зловонной разлагающейся протоплазмы. А в последующие сутки умрут контактировавшие с вами. Зато на третий день микроб вернется в неактивное состояние, и войска освободителей войдут в город, неся уцелевшим, если таковые найдутся, царство справедливости и братства.