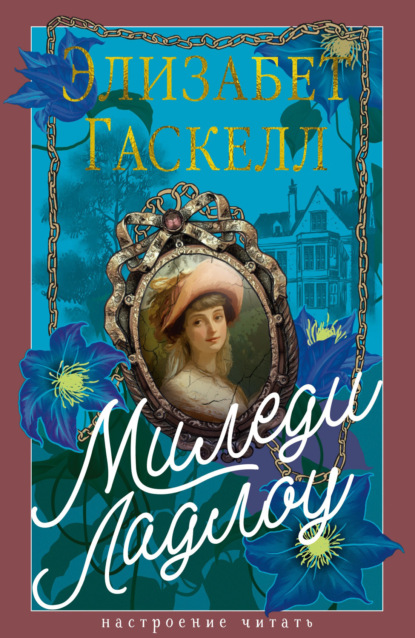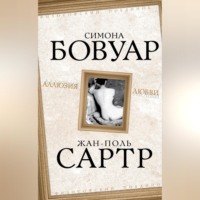Прелестные картинки

Полная версия
Прелестные картинки
Язык: Русский
Год издания: 1966
Добавлена:
Серия «Настроение читать (Азбука-Аттикус)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
8
Филемон и Бавкида – герои античного мифа, неразлучная пожилая пара, бедные, но любящие супруги.
9
Трапписты – католический монашеский орден.
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу