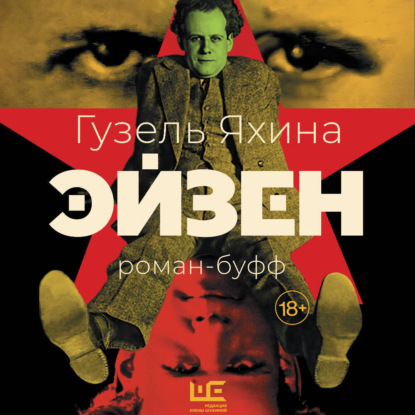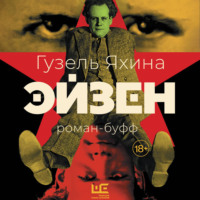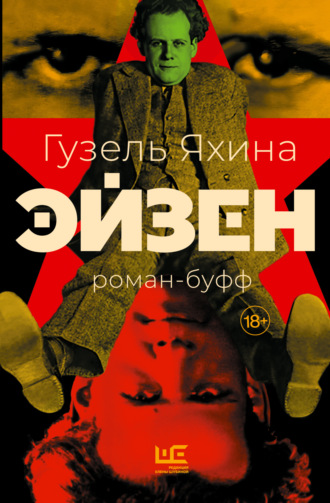
Полная версия
Эйзен
Людей сперва почти не рисовал, выходили плохо – всё больше зверей в человеческих одеждах. Носороги (конечно, тупые), цапли (обычно робкие), жабы (непременно нахальные) и ещё целый зверинец персонажей с яркими, почерпнутыми из басен характерами. Постепенно герои множились и складывались поначалу в сценки, а после в длинные рисованные истории из множества эпизодов. Когда, наконец, стали получаться и люди, были они очень похожи всё на тех же животных, только имели нос вместо рыла или ступни вместо копыт.
Это было смешно – и гувернантка Филя, и Папа́ смеялись. И гости улыбались, и товарищи по играм. Улыбки матери наблюдать уже не мог – они с отцом развелись, и мать уехала из Риги обратно к себе в Петербург. Но он слал ей картинки в письмах, стараясь нарисовать как можно забавнее, – и она отвечала восторженно: смеюсь, хохочу до слёз… Да у мальчика талант!
Учителя в гимназии восторгов не разделяли: по рисованию Серёжа Эйзенштейн выше четвёрки не поднимался, а то и сползал к позорным тройкам – не умел копировать гипсовые вазы и гипсовые же носы. Но что значила какая-то оценка по сравнению с тем, как вздрагивали одобрительно усы Папа́ при виде очередного шаржа! Или как ржал конём закадычный друг Ма́ка Штраух и хватал его за плечи от ликования (каждое лето проводили вместе на балтийском Штранде – были неразлучны три месяца в году). Вот оно было, наслаждение: улыбка или смех другого, благодарное касание.
Это же была и власть. Ещё ведя линию по бумаге, он уже представлял себе, как округлятся при виде рисунка глаза Фили или как загогочет шумный Мака: предчувствие чужой радости наполняло радостью и его, автора. А уж наблюдать за теми, кто разглядывает его творения, было отдельным удовольствием – если, конечно, зритель подпадал под очарование рисунка. Если же оставался равнодушным, Рорик уносил рисунок и рвал; клочки поливал водой, превращая в жижу; выливал не в унитаз (что было бы проще), а тайком спускал в угольный подвал и втаптывал в пыль. Позже Филя охала, обнаружив ботинки Рорика совершенно чумазыми, но не могла понять, где на чистейших улицах Риги её воспитанник сыскал такую грязь.
Простая чёрная линия умела не только смешить, но и пугать: эту сторону её власти он узнал позже. В отцовской библиотеке, что всегда и без ограничений была к услугам сына, он обнаружил сборник гравюр «Знаменитые казни». Преступников поливали смолой и кипящим свинцом; обували в «испанские сапоги» (не хлипкие деревянные, а настоящие кованые, в шипах и заклёпках); четвертовали лошадьми (в описании к самой жуткой иллюстрации разъяснялось, что неопытный палач забыл предварительно рассечь осуждённого на части, из-за чего пытка длилась несколько часов). Днями сидел Рорик над книгой, разглядывая гильотины и четвертинки человеческих туш, а ночами грезил о Гревской площади – самой зловещей и самой притягательной в Париже, где вершилось правосудие.
Попробовал сам нарисовать казнь и показал Филе – та привычно рассмеялась. А как было не улыбнуться при виде мелкого палача-недотёпы, что собрался рубить голову осуждённому в два раза выше и в три – толще себя? Рисунок погиб в угольном подвале. Как и следующий (четвертование поросят слишком уж походило на заготовку рождественских окороков). И следующий (заливание в рот ребёнку расплавленной серы приняли за кормление киселём). Рука, уже привычная высекать комическое в любом образе, не умела показать иное.
Он метнулся к библейским сюжетам (по Закону Божьему всегда стояла твёрдая пятёрка). Но и христианские мотивы привели к фиаско. Пронзённого стрелами святого Себастьяна хотел изобразить печальным – тот вышел саркастическим. Святая Агата – игривой. Брошенный ко львам святой Витт смахивал на горе-укротителя. Эти рисунки не показывал никому, сразу казнил в подвале. Видно, страшное и трагическое не было ему подвластно.
А прекрасное?
Ёжась от неловкости перед собой, три дня выводил в альбоме литературных красавиц. Но каждая – будь то шекспировская Джульетта или Эсмеральда Гюго – корчила такие уморительные рожи, что впору мальчишкам в гимназии показывать, на всеобщую потеху.
Приходилось признать: талант его ограничен. Рисунки егоорали подобно балаганным шутам – их понимал любой и хохотал над ними любой. Но более тонкий регистр чувств – печаль и горе, надежда, сострадание и любовь – оставался недоступен, увы. Шуты не умели играть возвышенно.
Никому об этом не рассказывал. Родные твердили о дарованиях «будущего художника» – со смиренной миной принимал похвалы. Отец прочил в архитекторы, преемником – соглашался. Мать размышляла в письмах о поступлении в Репинку – также соглашался. А сам подумывал о карьере карикатуриста.
Конечно, «художник» звучало куда как более лестно, чем «шаржист», однако же и более пресно. Да и кому какое дело до сотен выпускников Репинской академии, что ютились и будут ютиться по чердачным комнатёнкам Петербурга, малюя истинное искусство?! А вот до новых рисунков Гульбранссона вSimplicissimus есть дело, и очень многим. И до едких шаржей Домье в Caricature – как только они появлялись, моментально поднимая скандал и этим вписывая себя в анналы политической истории, – и до них тоже было дело. Министры, депутаты, банкиры, сам король Луи-Филипп – все боялись Домье…
Так уговаривал себя Рорик. Он умел себя уговаривать. А в качестве последнего аргумента – жму тебе руку, Домье! – за одну ночь испёк целую пачку шаржей на европейских монархов. Вышло очень похоже и очень зло – как никогда прежде. Самые удачные можно было даже пристроить в сатирические журналы: только что началась Первая мировая, спрос на политическую карикатуру вырос. И рисунки взяли к публикации – без восторга и всего парочку, но взяли же! Это ли не знак судьбы?
Мать искала сыну другой судьбы и ждала других знаков. По её настоянию он привёз в Петроград десяток самых ярких своих работ. Бледнея от волнения, Мама́ предъявила их другу дома – живописцу, графику, иллюстратору книг и преподавателю всё той же Репинской академии, словом, настоящему маэстро. «Грош цена рисункам, – вздохнул тот. – Мальчик ни черта не видит – рисует головой». Судьба настаивала: художником не быть, а лишь карикатурщиком. Приговор апелляции не подлежал.
Пока мать охала, не в силах смириться с вердиктом, Рорик завернул непонравившиеся картинки в обёрточную бумагу, капнул горячим сургучом и шлёпнул поверх медяк: ну грош – так и грош! Посмеялись: маэстро искренне, Мама́ сквозь слёзы – смешить у Рорика всегда получалось блестяще. А когда проводили гостя, он взял карандаш и изобразил маэстро – эдаким бесом средней руки: с блестящей лысиной бегемота и бегемотьими же ушками, козлиной бородой и слепыми глазёнками в линзах очков. Теперь смеялся уже Рорик, наедине с собой – тоже искренне и тоже сквозь слёзы: неудержимый смех лился из него вместе с рыданиями.
Такое у него было странное устройство души: веселил всех и порою сам хохотал громче прочих, но, оставшись один, рыдал – о том, над чем сам же и насмехался при других. Иногда рыдания мешались с улыбкой, но чаще – были беспримесными и горькими. Эти слёзы не разделить было ни с кем – ни с добрячкой Филей, ни с Макой Штраухом, ни со школьным товарищем Алёшей Бертельсом. Эти слёзы были – плата за умение смешить. Они приходили сами и уходили тоже – вытрясши его как грушу, оставляя после себя судороги в горле и сильную усталость.
Очень давно – а было ему лет пять, не больше, – он увидел в цирке двух клоунов: белого и рыжего. Один ревел, заливая фонтанами из глаз первые ряды, другой зубоскалил и паясничал без продыху. В первую же минуту Рорик понял: он хочет стать обоими. Или он уже и так они оба, одновременно? Узнавание было столь острым, что дома разукрасил себя гуашью по-клоунски – половину лица в бледный грим, вторую в яркий, – а пышные кудри взбил шаром над головой, чем до смерти напугал пришедшую уложить его спать Филю.
Наверное, оба паяца – унылый донельзя и донельзя дерзкий – жили в нём и прежде, но после памятного похода в цирк Рорик стал чутче узнавать их проявления в себе. Это дерзкий паяц запускал голубя под юбку маминой подруги, поднимая визг и суматоху. Это он ронял целёхонький именинный торт на диван (ей-же-ей, совершенно случайно!). Во время прогулки это он падал в лужу – да так неудачно, что забрызгивал всех вокруг. А когда, устав от утех, Рорик уединялся в детской – тогда появлялся второй паяц. И рыдал, как последний Пьеро, позабыв, что недавно скакал Арлекином.
Слегка повзрослев, Рорик обнаружил, что паясничать можно не только на публике, причём без ущерба для зрителей, – и домашний театр с труппой из оловянных солдатиков, китайских кукол и картонных фигурок из журнала «Огонёк» надолго стал главным увлечением. Мака Штраух обычно исполнял какую-нибудь одну роль, а Рорик – все оставшиеся, сколько бы их ещё ни было. В школьных и дачных постановках участвовал непременно, хотя представлять поручали обычно женщин (балерину Павлову, шиллеровскую маркитантку): тонкий, совершенно девчачий фальцет не позволял иного.
Игра стала его второй страстью наравне с рисованием. Она заставляла людей с восторгом смотреть на него, стоящего на подмостках, пусть и в дурацкой балетной пачке, – как сам он недавно с восторгом смотрел на другие подмостки, где давали «Турандот» в постановке Комиссаржевского. Театр давал ту же власть, что и рисунки, – власть приковать к себе чужие взгляды и не отпускать. Сладчайшую власть на свете.
Но узость его таланта проявилась и тут. Лицедействовал ярко, реплики подавал громко, словно не по сцене ходил, а кувыркался на аренном ковре, – все его выходы были смешны невероятно (ave, дерзкий паяц!). Однако драматические и трагедийные роли ему не поручали: как ни старался, неизменно превращал их в фарс (mori, дерзкий паяц!).
О карьере в театре помышлять не смел: с профессией рисовальщика Папа́ ещё мог бы худо-бедно смириться, а вот с ремеслом комедианта – вряд ли. Тем охотнее Рорик играл в жизни. Ролей было предписано много, и чем старше он становился, тем больше: пай-мальчика – дома, прилежного ученика – в гимназии, гордость Папа́ – в Риге, гордость Мама́ – в далёком Петербурге. И в жизни Рорик играл гораздо убедительнее, чем на подмостках.
Лучшей актрисой, которую он знал, была, конечно, Мама́. В ней не было лицемерия – она абсолютно верила, вот что играла. Это он понял уже взрослым. А ребёнком – пока ещё жили вместе, одной семьёй, – только наблюдал, как стремительно меняется её красивое лицо: сладко улыбающееся – когда обращено к нему; надменно-ледяное – когда к Филе; учтиво-предупредительное – к Папа́; робкое и одновременно чего-то ждущее – к другим мужчинам. Масок было много, они чередовались, будто картинки волшебного фонаря, повторяясь и не заканчиваясь. На семейных фотографиях Юлия Ивановна всегда выходила лучше всех – полная счастливого достоинства.
Близкие знали, что достоинство это испаряется с наступлением темноты: по ночам Папа́ и Мама́ скандалили всласть, по-базарному, а маленький Рорик прятался у Фили, чтобы зарыться в её постель и не слышать родительских криков. Отец бегал туда-сюда по коридору, тряся револьвером и обзывая мать шлюхой. Мать – в ярком платье, с растрёпанными волосами – бегала туда-сюда по коридору, грозя сброситься с лестницы. Рорик лежал, вжимаясь лицом в подушку, и уговаривал себя, что всё это лишь театр. Он умел себя уговаривать.
Ночные спектакли прекратились по решению суда о разводе (большая редкость по тем временам). Жена как виновная покинула дом мужа, а малолетний сын остался на попечении отца. После общались с Мама́ уже больше в письмах, а виделись на каникулах, когда Рорик наезжал в Петербург, в дом номер девять по улице Таврической – в гости. И каждый раз изумлялся: Юлия Ивановна вела себя так, словно ничего не случилось. По-прежнему улыбалась – медово, до приторности. Была оживлена и говорила много нежных слов, особенно прилюдно. Часто обнимала, особенно прилюдно. Шептала на ухо, что он – самое главное в её жизни. И никогда не заговаривала о разводе или его причинах – будто и не было этого вовсе.
И он улыбался в ответ, словно действительно ничего не было. И обнимал её нежно, особенно прилюдно. И шутил с материнскими гостями, и веселил их. И чувствовал, что кругом виноват. Перед отцом – что хочется быть с матерью. Перед матерью – что не умеет ответить на её чувства обожанием, а только строит ласкового сына…
Две большие любови – к рисованию и к театру – наполняли его детство и юность. Две большие боли – предательство матери и ущербность его таланта – наполняли также. Два паяца – хохочущий и рыдающий – уживались в душе: один для внешнего предъявления, второй для себя.
И если рыдающий паяц готов был согласиться с тем, что дарование его скудно, то хохочущий – никогда. Рукою Рорика он вывел в дневнике мысль – несколько путаную по форме, но дерзкую по смыслу: «Наполеон сделал всё, что сделал, не потому, что был талантлив. Он сделался талантливым, чтобы сделать всё, что сделал».

«Соавтору „Позолоченной гнили“ Сергею Эйзенштейну предложили снять собственный фильм».
Прекрасная фраза для газетного заголовка, ёмкая и многообещающая. Он придумал её сам, из баловства, никакой статьи в газете не было, – но вот уже пару недель звонкая текстовка не шла из головы. Да и на самом деле всё было именно так. Или почти так.
Пусть и не соавтору, а всего-то написавшему титры. Пусть и не предложили, а он сам явился с идеей – сначала в Пролеткульт, к Плетнёву, затем в Госкино, к Михину. Пусть и не снять, а только попробоваться кинорежиссёром – испытать себя. Но сути дела мелкие детали не меняли: первого апреля двадцать четвёртого года Эйзен подписал договор на производство картины «Чёртово гнездо» (в ходе подготовки переименованной в «Стачку»).
Изначальная задумка была масштабнее (уж в чём в чём, а в масштабности замыслов недостатка у него не было!): цикл под громким названием «К диктатуре» – из восьми фильмов, иллюстрирующих всю историю рабочего движения в России, от первых подпольных кружков и до Революции. Пока сошлись на одном эпизоде – про забастовку на заводе.
– Где встретили революцию? – спросил Михин, перед тем как поставить подпись на документ.
– Непосредственно в её колыбели, городе Петрограде, – улыбнулся Эйзен. – Можно сказать, присутствовал при рождении. Или при родах, если угодно.
Хотел ещё пошутить про Вифлеемскую звезду, обернувшуюся красной пятиконечной, но посмотрел на украшающий стену суровый портрет Ильича – и не стал.
А Первого мая была уже пробная съёмка. И закончилась катастрофой.
Хронику демонстрации на Красной площади Эйзен задумал сделать эпилогом к фильму, и четыре часа, пока продолжалось шествие, бегал за оператором Рылло с подсказками и указаниями. «Снять как можно болеегромко». «Вознести камеру к облакам». «Лицо товарища Троцкого заснять по частям: сначала рот, чтобы открывался широко, затем глаза, чтобы сверкали молниями, а затем профиль, чтобы парил над толпой». Рылло был очень опытен и очень молчалив – за всю смену произнёс единственную фразу, хотя и несколько раз: «Вы мешаете». Вечером Эйзен поплёлся к Михину – требовать другого напарника. Встретился там с Рылло – тот просил уволить его от Эйзенштейна.
Катастрофой обернулась и подготовка сценария. Михин подарил режиссёру два увесистых тома – «Техника большевистского подполья». Впечатляющие весом и толщиной мемуары старых партийцев предполагалось положить в основу экранизации. Книга называлась «техникой» не зря: могла помочь подпольно-типографскому делу в других странах – как и «Стачка» должна была стать пособием по забастовкам, уже в киноварианте. Всё в двухтомнике было – чистая правда. Но как же эта правда была скучна! В каждой статье: нелегальные типографии, листовки, прокламации, манифесты, бумажки, ещё бумажки…
– Мы сделаем всё по-другому, – заявил Эйзен, вручая Михину школьную тетрадку с наброском сценария.
Тот раскрыл тетрадку – и на минуту онемел.
Богачка – с красивыми ногами, которые предполагалось заснять отдельным средним планом, – купалась в бассейне с шампанским, а мужчины во фраках, сидя вокруг, черпали его ладонями и пили. Карлики танцевали танго на столе. Сверкали бриллианты. (Что скажешь, далёкий Фриц Ланг?!) Рабочий на заводе погибал в котле расплавленной стали – погружался медленно, последней исчезала в булькающей лаве рука, – и товарищи хоронили скелет, застывший в металле. (Столь изощрённой смерти и столь необычных похорон ещё не отражало искусство, даже в «Знаменитых казнях».) Стачечники бросались кирпичами, обливали кипятком полицейских. А в последнем эпизоде бунтовщиков, уже коленопреклонённых, зверски расстреливали.
– Вы хоть раз были на заводе – где-нибудь в Коломне или Нижнем Тагиле? – обрёл Михин дар речи. – Откуда в Нижнем Тагиле карлики в цилиндрах? Бассейны с шампанским?
– В кино важен образ, – парировал Эйзен (почти столь же авторитетно, как и Эсфирь Шуб недавно). – Покажи – и тебе поверят.
И Михин поверил – нахальному до неприличия выскочке с волосами как лохматый куст на голове.
Госкино потребовало уволить автора фантасмагорической бредни – Михин отстоял. Тогда Госкино потребовало от Михина присутствовать на каждой съёмке – согласился. Вопрос был только: кто из операторов отважится работать со скандализованным дебютантом?
Наконец нашёлся кандидат – очень молодой и, по слухам, добрая душа, – кого можно было попытаться сосватать. Только что вернулся из дальней экспедиции – не то с Урала, не то с Алтая, – а значит, прослышать о злоключениях «Стачки» ещё не успел.
– Пусть приходит сначала на мой спектакль, – предложил Эйзен. – Если не сбежит в первые полчаса – сработаемся.
Идея была здравая: его постановка в Пролеткульте наделала много шума. Пьеса называлась «На всякого мудреца довольно простоты» и привлекала многих любителей Островского и прочей назидательной классики. Любители не ведали, что от Островского в спектакле ни ножек, ни рожек, ни даже фамилий действующих лиц. Имена, реплики, сюжет и смыслы – всё перепахал энергичный режиссёр. Сколоченный из ошмётков авторского текста и злободневной политической повестки «монтаж аттракционов» (именно так было обозначено в афише) вызвал шквал восторгов и негодующих обвинений, в том числе в «истеричности». Выдержатьгромкий спектакль могли не все: от обилия трюков, преимущественно цирковых, головы у зрителей шли кругом, глаза лезли на лоб, а животы надрывались от смеха, часто помимо воли хозяев, – и многие ретировались из зала задолго до конца представления.
Точного дня не назначили. Возможно, Михин и правда опасался, что оператор улизнёт из театра во время представления; режиссёру знать об этом было не обязательно. А возможно, кандидат оказался человек занятой и затруднялся выбрать день. Как бы то ни было, Эйзен понятия не имел ни как выглядит потенциальный напарник, ни когда посетит спектакль. И каждый вечер внимательнее обычного смотрел на лица в зале: не явился ли?
На лица в зале смотрел всегда. Стоял за кулисами и наблюдал зрителей. Он питался их взглядами – когда смеялись, боялись, удивлялись или гневались. Он страдал – физически, до боли в животе, – когда скучали и уходили. Страдал так, что готов был ударить каждого невежу или даже сам выскочить на сцену и заверещать-закривляться-закувыркаться, чтобы только обернулись, только остались ещё на минуточку. Стойте же! Но выскакивать было нельзя – идиотский фальцет не возмужал с годами и поставил крест на сценической карьере.
Он мечтал о таком устройстве театра, где режиссёр превратился бы в дирижёра: сидя под куполом, глядел бы в зал и подавал сигналы актёрам, то наращивая комическое на сцене и развлекая заскучавшую публику, то усиливая драматизм и выбивая слезу. Взмахи его рук дёргали бы невидимые нити, заставляя актёров лицедействовать вдумчивее (adagio, andante) или чуть более резво (moderato, allegretto) или скакать Петрушками (presto, presto!). И он бы стал – нет, вовсе не кукловодом, как обозвал его однажды Мака Штраух, некогда товарищ по играм на рижском Штранде, а теперь актёр Пролеткульта и преданный друг, – а органистом! Исполнителем театральных симфоний. Исполнителем желаний зрителя об идеальном спектакле.
Идею режиссёра-дирижёра подслушал когда-то на лекциях Мейера; тот швырялся идеями щедро, как сеятель семенами, зачастую рождая драгоценные мысли прямо в ходе рассказа и тут же про них забывая. А Эйзен – не забывал.
Сегодня, наблюдая пёструю публику, что рассаживалась по местам, уже понимал, кто сбежит раньше времени. Наблюдать было удобно: подмостки специально для «монтажа аттракционов» были опущены на пол помещения (бывшего бального зала купеческого особняка) и превращены в манеж – круглый и покрытый красным ковром. Места для публики опоясывали арену амфитеатром, образуя глубокую чашу, и каждый зритель был как на ладони. Вот пышные дамы в шляпках-клош с цветами и перьями – скорее всего, сбегут в первый же час. Вот франтоватый гражданин в пиджачной тройке, похожий на иностранца и непонятно почему очутившийся в пролетарском театре, да ещё и в первом ряду, – тоже сбежит. Вот старички-интеллигенты – сбегут и эти.
Началось представление, как обычно, ударом литавр и бравурной музычкой. Униформисты – в программке обозначенные просто словом «униформа», как полагалось в цирке, – были профессиональные акробаты: скакали и крутили сальто не хуже, чем на Цветном. Актёры за полгода тренировок тоже навострились, редкий зритель мог отличить их от цирковых. Костюмы у всех героев не просто клоунские, а с такими чрезмерно широкими задами и такими гигантскими воротниками, что Эйзену пришлось пошить их самому: театральный портной отказался возиться с «карикатурами». Персонажи выскакивали на манеж из чёрного трюкового сундука и пропадали там же, отработав номер. Один «выруливал» в собственном «авто», сидя на спинах четырёх гимнастов: каждый представлял колесо; ещё одно – запасное – ехало на плечах у пятого акробата. На заду у пятого был прикреплён автомобильный номер, из-под которого валили выхлопные облачка (пудровые, из резиновой груши). Острые шуточки – про Петлюру, ГПУ, кадетов и лорда Керзона – сыпались горохом, но терялись в грохоте ударных и духовых…
Публика вначале оцепенела от эдакого буйства. Когда же красавица Коломбина уселась на колени мужчин в первых рядах – те ожили. Когда ковёрный почти уронил на зрителей поднос, уставленный банками со сгущённым молоком, а банки повисли в воздухе, потому что были привязаны бечёвками, – ещё более ожили, захихикали и загоготали. А уж когда под зрительскими креслами взорвались бомбы-шутихи – визг и хохот поднялся такой, что перекрыл не то что реплики, а и сам оркестр.
Первыми из намеченных Эйзеном ретировались интеллигенты-старички. Отстрадав не более половины действия, они прижали к чахлым грудям соломенные шляпки, как щиты, и начали пробираться к проходу. Это было затруднительно: только что прекрасная Коломбина вскричала «Я выхожу из себя!» – и принялась выскакивать из своих многочисленных одежд, подняв на ноги чуть не всех мужчин в зале. Они свистели и топали, подбадривая процесс, и старичкам никак не удавалось пробиться к двери. А коварная Коломбина, будто назло, подала ещё реплику: «Хоть на рожон полезай!» – и действительно полезла, и действительно почти на рожон. К поясу пылающего страстью героя был прикреплён шестиметровый перш – по нему-то и заскользила вверх клоунесса, демонстрируя немалую силу рук, немалую гибкость ног и всю свою немалую красоту, к тому времени уже вполне освобождённую от цветных шаровар и накидок. Дедушки работали локтями как умели, но молодость оказалась сильнее: ни один так и не достиг выхода. На их удачу – и на горе всех остальных мужчин – Коломбину унесли за кулисы прямо верхом на шесте. А в пышном кринолине другой актрисы – как раз чуть пониже спины – внезапно отворилась дверца, из которой кто-то заорал на весь зал: «Антр-р-р-р-ракт!»
После паузы действие взвивалось по нарастающей. Отбивал чечётку мужчина в женском наряде, при этом в бюстгальтере его то и дело загорались электрические лампочки, обозначая разгар любви. Эпизодически вывозили на манеж муллу, что горланил частушки, каждый раз умудряясь попасть мимо нот:
Всё может быть, Христос и помер.Но что воскрес – вот это номер!Затем служитель культа вздымал табличку «Религия – опиум для народа» и предъявлял на все четыре стороны – для непонятливых.
Зрителей в зале после антракта стало меньше, но оставшиеся уже были по-настоящему влюблены в происходящее, поэтому и подпевали мулле, и улюлюкали светлякам в лифчике. Дамы с нарядными шляпками, которых Эйзен и не предполагал увидеть во втором отделении, всё ещё сидели на местах, как и франт в первом ряду.
Дам добил верблюд.
Он появился во второй части спектакля – самый настоящий, с двумя горбами и тёмно-рыжей лохматостью по могучему телу. Верблюда звали Байрон; в оттопыренных губах его и правда было что-то чопорное, предположительно английское. Животное приводили на каждый спектакль из Московского зоосада, соблазняя солью и луком. Верхом на верблюде выезжал один из отрицательных персонажей (конечно, во фраке и цилиндре), делал круг по манежу и вновь исчезал за кулисами, как бы капитулируя перед выкриками зала, к тому времени уже достаточно разогретого и желающего непосредственного участия в представлении. Голова верблюда была украшена плюмажем.