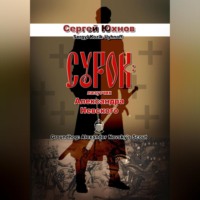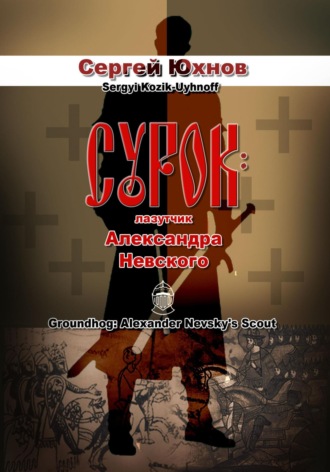
Полная версия
Сурок: лазутчик Александра Невского
Иван Данилович на носу станет и рукой о лебединую шею корабля опирается. Так на ветру, грудью вперёд и стоит. «В облака мой лебедь смотрит! – мечтательно повторяет. – В облака!»
Но главное богатство купца – это пять дочерей. И пришло время старшую выдавать замуж. Хотелось ему, коль богат стал, дочку пристроить, как полагается. И жена со свахой оттого долго возились, всё выбирали между домов на Прусской улице, с кем породниться. Когда же сговорились с новой родней, Иван Данилович сам сватов и родителей зятя у себя принял и долго переговоры вёл.
Собирались они, как люди, – зимой свадебку справить, но что-то в новой родне не приглянулось купцу. То ли, то, что они из Суздаля родом, а отец их княжий воевода, то ли ещё какая соринка запала. Время затянулось, пошли постные дни. Свадьбу пришлось отложить. Намедни же со свёкром припозднились они. И когда совсем говорить не о чем было, новый родственничек, размякнув от сбитня6*, выдал ему всё про себя и про душу свою грешную… Стал похваляться, как жену жизни учит и дураком7* по спине охаживает, да и кулаком даёт частенько, так что искры из глаз летят. Иван Данилович слушал его, слушал и вдруг понял, что и его дочку-милочку щербатый сынок воеводский будет плёткой угощать. У него даже слёзы на глазах проступили, так жалко стало родимую. «Ведь не зря сомневался старый! – вспомнил Иван Данилович тот вечер. – Не нашенские они, как сердцем чуял…»
– Так ведь баба, Данилыч!? Ты чего!? – даже привстал свёкор от удивления, узнав причину расстройства тестя.
– Нет, дорогой мой! – отвечает ему Данилыч, – я в твои тиски дочку не дам. Опозорюсь пусть, но не дам твоему прыщавому мой цветочек топтать!
– Так ведь не бьёт, не любит! – удивился отец прыщавого.
– Это у вас, у сермяжных суздальцев, так принято, у нас в Великом Новгороде другие понятия…
Так и не порешили они за столом в ту ночь ни о чем путном. К утру свекор уехал домой за свахой, матерью, сыном и другими нужными людьми, вернувшись к обеду. Не хотел он отступаться, больно невеста богата. Сели они тогда друг против друга и стали в тишине молча хрустеть всем тем, что холопы Данилыча на стол успели натаскать.
Друг на друга старались не глядеть, со смурными лицами ели. Ведь, всего день назад сидели они тут и решали о приданом и о свадьбе. Казалось, всё яснее-ясного, но тесть опять артачится…
Подьячий тихонько проскользнув из передней, где мать и дочка сидели, – их отец не допустил до разбирательства, – нагнулся к уху Данилыча и тихонько прошептал: «Готова грамота». Напротив перестали жевать, услышали. Купец встал и, приняв из-под руки свиток, передал его свёкру.
– Вот погляди, мил человек, какую рядную запись ты должен подписать со своей стороны. И я подпишу её, со своей.
Свекор почтительно принял пергамент и, развернув, стал громко вдумчиво читать, искоса поглядывая, то на своих, то строго исподлобья на противную сторону. Дочитав до места, где его сынок «…обязуется не бить и ни чем не унизить жены своей, ибо лишится всего приданого и надела…», не выдержал, и вскочил:
– Не может мой сын тебе такого слова дать. Ишь чего придумал, торговая душа. Договор писать с ним!
Его люди закивали. А свекровь, приметил Иван Данилович, лицом побледнела и змеиными глазами вперилась в него. «Видно поутру муженёк со всыпал дурака ей…», – позлорадствовал про себя Данилыч.
– Отродясь мы никаких грамот не писали. Воюем всё жизнь в дружине. И сын наш у князя служить будет…
Пошла перебранка. Чуть до оскорблений не дошло.
– Может к немцам сходишь, Данилыч, и грамоту сию заверишь, или к жидам… Ты же их породы, тоже торгуешь…
На это Иван Данилович не утерпел, хотел уже силу показать, но вовремя опомнился и тихо сказал полушёпотом:
– Не хотите, как хотите. У нас сватов каждый день – толпы. Вон, в передней ночуют вповалку.
Сказал и молча сел на скамью, сложив руки на груди. Гости притихли, понимая: старого хитреца не проймёшь ничем. Вон он сидит и честными глазами зрит. Небось, так же и немцев обманывает: «Нет денег, братцы и не будет». А у самого полный кошель гривнами набит. Вот взял и грамотку сватьям сочинил, а её не пройдешь, не объедешь. «Хочешь – подпиши и женись, не хочешь… иди отседова». В тишине кашлянул свекор, все оглянулись. А он, на Данилыча лад, так же вкрадчиво и тихо произнёс:
– Ты уж извини, мил человек, но писать мы не приучены, тут уже сказали. Мы мечом с плеча рубить привыкли, а писать не могём, ты уж не обессудь…
И вставать начал медленно, показывая, что закончил разговор. В углу тихонько охнули от такого поворота. И тут заплакал кто-то навзрыд. Жених молодой не выдержал, на краю стола хныкал, лицом в руки уткнувшись. Ему всего пятнадцать было от роду, но уже крупный откормленный был, почти гридень8*. На широкой спине, под рубашкой, так мышцы и ходили от всхлипов, будто волны. К нему подошёл отец и, взяв могучей рукой за чуб, поднял лицом к народу. Чувствовалось, тяжела голова лохматая.
– Ты что сынуля? Как так? Плакать вздумал?– растерявшись, лаского заговорил отец.
– Уйди, батяня! – ревел детина. Лицо у него распухло, губы в слюнях, слезы по щекам размазались. – Уйди, батяня, я жениться хочу…
– Так мы тебе невесту другую справим… – засмеялся отец, оборачиваясь к народу. Вокруг засмеялись душевно.
– Да-а! – взвизгнул молодец, скорчив рот от рыданий – Я на этой хочу, на Мирошкина дочери!
Он показал на Ивана Данилыча, это его так звали – Мирошкин.
– А чо на ней-то? Ты же её даже не видал… – продолжал отец, и тут остальные, с их половины, ещё сильнее захихикали.
– Ну и что! – опять взвизгнул молодец, и тихо, заговорщицки, добавил. – Зато, батяня, Олежка с Рогатицы9* видал, говорит – краса… я уж об ней мечтаю…
Иван Данилыч ухмыльнулся про себя: «Может и ничего парень-то? Полюбит, и бить не будет, а на руках носить… Да делать нечего, раз затеял такое, надо до конца доводить…» И пока он так думал, свёкор успел пошептаться со своими и повернулся к нему:
– Ты, Данилыч, извиняй, но мне со своими поговорить надобно, посоветоваться. Нам тут можно одним остаться или в другой раз приехать?
Ничего не оставалось купцу, как со скамьи встать и вместе со своим народом выйти из комнаты, уступив тестю. Выходя, в дверях встретился подьячий, спросивший тихонько: «Подслушать, Иван Данилович, или как?» Купец отмахнулся, мол, пускай, дело известное, не мешай. Прошёл в светёлку, на женскую часть. Там ожидали жена и дочка.
Тогда-то и дал Иван Данилович слабину в своём купеческом характере. В светёлке он увидел жену и заплаканную дочку. «Подслушивали», – понял он. Дочь навзрыд, охрипши, ревела:
– Батюшка, уступи ты им, любый он мне, любый. Пускай бьёт, только люблю его… И мать вторит:
– Уступи, Ванечка, уступи…
– Да где же вы повидаться-то успели? – опешил Иван Данилович, как и его свёкор.
– В марте, на Новый год, на мосту. Его мне подружки показывали. И сейчас, в окошко, ещё раз посмотрела, когда они приехали. Любый он мне батюшка.
«Черти вас дери! – подумал купец. – Вот связался-то с любовными делами». И, решив уступить, уверенно вошёл в договорную горницу. Но родственнички огорошили его своим решением…
– Значит так… – начал отец жениха. Он поднял со стола грамоту и стал водить по ней пальцем, читая про себя. – Мы ещё раз прочитали записку и согласились принять её…
У Ивана Даниловича камень с души упал. «Ну слава Богу, не надо юлить и вывёртываться. И здесь меня чутьё не подвело», – уже было порадовался он…
– Толковую ты грамоту составил, Иван Данилович, сразу видно – купец настоящий, русский писал, все, как полагается… – продолжал свёкор. Иван Данилович нахмурился: «Куда ты гнёшь? Что-то непонятно становится…».
– Мы всё, как следует, прочитали и почти со всем согласны… но все же маленькое исправленице хотим внести… Совсем плевое, можно сказать… – свёкор оглянулся по сторонам, ища поддержки у своих, те согласно закивали.
– Всё принимаем в твоей грамоте, но, Иван Данилович, посуди сам – приданого-то маловато получается, для наших-то голубков, надо тебе подкинуть маненько. Не о себе, о детях наших давай подумаем…
– Это сколько же? – встрепенулся купец.
– Сто гривен, мы знаем, для тебя пустяк будет… – и старый дружинник пододвинул пергамент к глазам Ивана Даниловича, где было жирно исправлено двадцать пять на сто. Купец даже не взглянул вниз, а вперился в свёкра напротив. Тот, не мигая, простодушно глядел на него, и Иван Данилович понял: его перехитрили, и платить, хочешь, не хочешь, придется, но от бессилия, в сердцах, всё же добавил:
– Я вам что – Садко богатый гость!.. По миру пустите со свадьбами вашими…
* * *
«Вот сродственнички-то!» – продолжал повторять купец, пока шёл на пристань. «Где таких денег взять, чтобы торговым делам не повредить, – ума не приложу. Ладно, сам виноват, – богатством расхвастался, гордыня растолстела… а хитрые люди поймали в сеточку. Хошь не хошь – плати, а то позор пред всем миром… Родственнички!..», – думал он, минуя лавки, закрытые на замки и услышал как браняться за тыном, а ругались не по-новгородски, а по-владимирски. Иван Данилович подумал со злости: «Понаприехали, бисовы дети. Гости, тоже мне. Ворьё одно!» И тут смутно что-то начал припоминать а, когда припомнил, даже остановился: «Степка-немец! Вот куда надо идти!».
Тот вор среди воров, а среди немцев – самый первый вор. Он давно предлагал деяние одно совершить, но Иван Данилович не решался, боясь быть пойманным за нарушение артельных соглашений. Но нынче особый случай, видимо, придется…
Степка-немец, а по-настоящему – Стефан Амтлихштейн, был настоящим немцем, живущим в Новгороде у одинокой хозяйки, промышляя всякими темными единоличными сделками в обход Готского10* двора.
Степку-немеца считали корчемником11*. Сам-то он, конечно, не плавал, но связи на немецкой земле, как и в Новгороде имел. Тем и жил, что лихих купцов-ушкуйников12* с мейстерами13* ворами сводил. Хорошо про него рассказывали те, кто хоть раз попробовал. Говорили: «Степка-немец не подведёт, все, как сказал, так и сбудется…».
Пришлось во второй раз поворотиться Ивану Даниловичу за это утро и пойти от реки обратно, на ту улицу, где жил Степка-немец. Прошёл рядом с домом братьев Митяев. Крышу их заваленную осмотрел. Двор неубранный. Как валялась телега на прошлой неделе разбитая, так и лежит по сей день. Ворота вместо запора рогатиной приперты, а возле сидят рабочие мужики.
Давно уже у Митяев не было никаких работ, а мужики всё равно ждут. Вдруг у купцов дела ладно повернуться, для них и прикорм найдётся. Когда Данилыч, бывалочи, проходил мимо, один из них обязательно подскакивал: «Ну как, Данилыч, нет чего-нибудь для нас? А то у Митяев голодаем давно…» «Нет пока, ребята, – ответствовал Иван Данилович, будто со всеми разговаривая, а не с одним, называя его «ребята». – У меня целый гурт своих кормить надобно». – И шел дальше.
Конечно, для двоих или троих у него местечко найтись могло бы, но он понимал, так нельзя. Или всех работников бери или никого. Потом свои же, тому, кто оторвался, житья не дадут: ни в какую артель боле не примут, могут и побить.
– Эй, мужики, здорово. Чего мастерите? Голубятню опять! – приветствовал он сидевших. Один из них хотел по обычаю подскочить к нему со своим вопросом, но Данилыч, будучи не в духе, махнул рукой: «Сиди на месте, мил человек, пока нет работы». Сам же подумал: «Пооборвались митяевы работнички, жалко смотреть…».
Мужики всё равно повставали, сняли шапки. «Здорово, Данилыч!» – а купец стучал сапогами прочь по настилу. Мужики, кряхтя, расселись обратно по местам, да продолжили тачать длинные жерди, соря белыми стружками. Помолчали. Один не выдержал, глянув купцу вслед, сказал,:
– Утёр он всё-таки нос Митяям…
Остальные с пониманием закивали головами:
– Утёр, утёр. Точно, утёр…
– Под Богом ходит, а если бы не ходил, так не утёр бы.
– Это точно, – закивали опять.
– Ну, хватит балаболить, давай, Гришка, показывай, как это будет…
Самый худой, с большим носом и зелёными глазами, встал, отряхнул рваные порты, поплевал на руки и, взяв небольшой колышек, стал вбивать его молотком в отверстие на конце жерди.
– Ты не молчи, объясняй нам, непутёвым.
– Во-во объясняй непутёвым. Ты-то путёвый у нас…
Мужики засмеялись, захлопали Гришку по дохлой спине, а тот, не обращая внимания на насмешки, вытер нос и, почесав бородёнку, заговорил:
– Короче… Немец на коне…
– А Гришка на козе… – сострил кто-то. Мужики загикали, но потом осадили остряка. – «Ну, хватит, хватит…»
– Немец на коне… – продолжил невозмутимо Гришка, – это пудов этак пятьдесят будет со всеми заклепками и сбруей…
– Да более ещё…
– Ну, вот… Он когда наступает, то тараном так прёт, что не удержишь, расплющит любого…
– Это точно.
– Я чего говорю… Пусть себе разгоняется, а мы встанем перед ним как есть, он и обрадуется, мол, русские дураки. А у нас прямо под рукой, на земле, травой или снегом прикрытые лежат жерди заточенные. Рыцари близко, мы эти жерди сразу все скопом поднимаем и в землю вот этим рогом упираем, – он показал на колышек. – Немец – тяжелый, отвернуть не успеет, мы ему брюхо-то и пропорем, до зада лошадиного…
– Да ну, чепуха какая-то. Ты хоть видел, как немец наступает. Его никакими палками не остановишь. Думаешь, колышек вбил и немца победил… Да не удержишь ты его, не удержишь!
– А я говорю, что удержу!
– Ну, вот сам и встанешь впереди со своей оглоблей точёной, а мы посмотрим…
– Ну и встану…
– Вот и встанешь…
Их спор прервала молодая баба, вышедшая во двор одного из домов, и, перегнувшись через забор, с норовом заговорила:
– Чего шумите, мужички? Ой, Боже ты мой, насорили-то, так и занозу можно подхватить…
– А ты, вдовушка, не ходи босая.
– Если и буду ходить, то не для тебя, косоротый… Гриш, а Гриш, зайди дрова порубить.
– Иду, Дарья…
* * *
Степка-немец обычно вставал засветло и уезжал, но сегодня его голые пятки торчали с печки из-под медвежей шубы. Он простудился. Хозяйка суетилась, готовя горячие отвары для него. Чихая, Амтлихштейн под своим тулупом произносил: «О, майн Гот! Чих, о, майн Гот!»
Стефан в Новгороде жил скромно, хотя всем болтал, что в неметчине у него дом двухэтажный, семья с двенадцатью детьми и челяди за сотню. Ему верили считая, немцев народом прижимистым. Полушку сберегая, будут не только в бедном доме жить, но всякую бурду в пищу потреблять.
Степка-немец отсылал своим из Новгорода деньги, но сам почему-то к ним не ехал. Его как-то спросили об этом, а он, будучи подвыпивши, махнул рукой и сказал: «Там плохо, еда не хорош, мёда мало…» «А как же дети Степан, не скучаешь?» «Я не знай, может быть. Дети это очень серьёзно, дети это много денек надо. Я тут, чтобы мои дети хорошо кушать, я не скучаю, я хорошо работаю для них…»
Степка приподнялся под тулупом, собираясь вот-вот чихнуть. В дверь постучали, да, не дожидаясь ответа, ввалились с морозца в избу. Это пришёл Иван Данилович. Степка застыл, прислушиваясь к разговору, и, услыхав знакомый голос, высунул мокрую растрёпанную голову: «Иван Данилович, сколько лет, сколько сим, проходи, май сейчас выйдет!»
В полдень солнце разыгралось. За окном избёнки пошла барабанить капель. Хозяйка вышла и долго не возвращалась.
– … я тебе, Иван Данилович, пятый раз говорить, поверь мне, старому корчемнику, и трёх месяцев не пройдет, как зерно на вес золота станет в Великом… – уверял купца Амтлихштейн.
– Откуда ты это знаешь, скажи на милость, друг дорогой? Ну, откудова, скажи? Я во всё поверю, прямо сейчас на корабли и в Любек. Откудова? – не отступал Иван Данилович.
– Не могу сказать…
– Ну, вот тебе здрасьте! Как же я тебе могу деньги доверить, а, может быть, и жизнь, если ты мне не доверяешь?
После этих слов немец, отхлёбывая горячий отвар, призадумался. Но не выдержав, встал и, перешагнув через лавку, пошёл к своим сундукам у стены. Шуба, накинутая на плечи, волочилась по полу. Степка бубнил по-своему, чувствовалось, ругается.
– Хорошо, коль так. Но то, что я тебе скажу, ни одни уши не должны слышать…
– Знамо дело! – Иван Данилович обрадовался, уступке корчемника. Степка покопался в сундуках и вынул на свет берестяной клочок, скрученный в трубочку, осторожно подал его гостю. Развернув бересту, Иван Данилович увидел от края до края нацарапанные мелкие закорючки, похожие на узор.
– Чой-то? – пытался прочитать купец, отодвигая и приближая клочок к глазам. Несколько раз перевернул его и так и сяк, но тайна закорючек оставалась недоступной.
– Это тайнопись, на немецком, – объяснил полушёпотом немец.
– Ха! – громко вскрикнул Иван Данилович – Тайнопись! – со смехом повторил он. – Да ещё и на немецком! Ну, убедил, брат, убедил. Я побежал продавать дом со всеми слугами…
– Зря смеешься, Иван Данилович. А написано там: быть беде в этом году на Руси. Хан Бату идёт из-за Волги, с ним более трёхсот тысяч воинов, и не на кипчаков идут, а на вас, на русских. Эту грамотку мне один Волжский немец-корчемник переслал через ушкуйников.
Иван Данилович нахмурился:
– Это Орда что ли?
– Они самые, Иван Данилович. Собираются гулять по всей земле. Может и не один год. Так что зерно скоро на юге не достанешь, за морем покупать будем. Дай-то Бог, чтобы до Новгорода не дошли бродяги…
– Дай-то Бог… – перекрестился напуганный купец – А откудова знает твой корчемник, что они не на кипчаков14* идут, а на нас?
– То я сам не знаю. Думаю, от своего человека в Орде. Папа Римский лазутчиков имеет по всему свету.
– Да-а, дела… – почесал затылок, озадаченный купец и перешёл прямо к делу, поверив немцу на слово. – Так ты говоришь, когда туда поплывём, на Ладоге15* проверять наши не будут.
– Точно, Иван Данилович. Ты мешки сеном набей, для убедительности рассыпь зерен, пару мешков настоящих сверху положи. Поверят… – беспечно махнул Степка рукой. – А вот уже, когда назад пойдешь, надо будет схитрить. Скажешь не продал ничего, скажешь латиняне заупрямились, скажешь Папа Римский православных невзлюбил, и запретил торговать с Новгородом… А на самом деле ты не у немцев зерно купишь, а у жидов. Я тебе всё напишу, да… и ещё одна малость. Ты не поленись и из мешков немецких зерно пересыпь в свои. У служивых на Ладоге глаз наметанный, немецкие мешки с клеймами враз распознают. Из чистых мешков можно спокойно в Новгороде продавать, никого не боясь… Так у нас и получится корчемство, без всяких плат и дани. Чем больше ты кораблей с собой возмёшь, тем больше и заработаем…
– Знаем, не учи. Лучше возьми бересту и подробно весь путь мой распиши… Так ты, значит, четверть прибытка хочешь? Многовато… – посмотрел он строго на Амтлихштейна, а тот будто не слышал, уплетал блины, обмазывая прежде в миске с мёдом, и запивая отваром шиповника. Иван Данилович стал ждать, когда сказанное дойдет и совесть иноземная пробудится. Немного погодя, видимо поняв, что молчание затянулось, немец хмыкнул и радостно забалаболил:
– Какой же вкусный этот мёд! Кто его только придумал! А Данилыч? Как ты думаешь, кто придумал мёд, немцы или русские? – с наивным лицом спросил Стефан.
– Пчёлы, Степ, пчёлы придумали. Ты мне зубы не заговаривай, – нахмурился купец. – Скоморох нашёлся. Я тебя спрашиваю – четверть с прибытку не многовато ли будет для тебя, лежебоки?…
Долго Иван Данилович торговался со Стефаном Амтлихштейном. Уже и хозяйка вернулась, на стол им сызнова подала. Ещё раз удалилась и опять воротилась, а они сидят и сидят. Только после полудня ушел Иван Данилович, положив в карман берестяную записку.
Проходя мимо дома братьев Митяев, он остановился возле мужиков. Те на него смотрели с недоверием, боясь, что-либо сказать, но Иван Данилович томить не стал, спросил напрямую:
– Ушкуйники есть среди вас?
Купец знал, среди работников братьев Митяев сплошь одни разбойники. На том и погорели они в своё время. Проворовались помощнички, так что купцы своё дело потеряли. Но те, кто воровал, давно из этой артели на Волгу ушли. Остались, которым лихость надоела. На вопрос Данилыча они замотали головами: «Нет, что ты, среди нас разбойников нет, все люди честные…»
– Ну, тогда для вас у меня работы нет, – отрезал купец и пошёл восвояси. Мужики, как ошпаренные, вскочили:
– Да ты что, Данилыч, погодь, мы же не в этом смысле. Ушкуйники мы все, сплошь все ушкуйники!
Купец остановился и, усмехнувшись, ответил им на это:
– Ну, ребята, воры мне тем более не нужны! Своих полон дом. – И опять дальше потопал. Мужики снова за ним кинулись:
– Ты, Данилыч, скажи нам, непутёвым, кем быть, мы тем и будем, только возьми. Глянь на нас, изголодались. Неделю назад даже собаку съели…
Купец остановился и, оборотившись к ним, говорит:
– Живодёры, как не стыдно.
Мужики головы виновато повесили, оправдываясь:
– Нужда, Данилыч, нужда…
– Ну да, ладно, сколько вас всего-то?
– Семеро нас и Гришка, в том доме дрова рубит, сейчас позовем…
– Не надо… Завтра после заутрени, ко мне во двор на перепись. А этот Гришка ваш, я слыхал, грамотный?
– Грамотей, точно! Как к нам прибился, и не знаем. Говорит, скоморохом был, да служивые люди с монахами охоту отбили штукарить16*. Чудной он у нас…
Иван Данилович постоял, подумал и опять спросил:
– А голуби вон те, – он показал на голубятню, видневшуюся на крыше сарая. – Его, что ли?
– Его.
– Вы, мужики, вот что, приходите завтра. А с Гришкой этим я отдельно поговорю, грамотные мне нужны.
И пошёл дальше, всем видом показывая, что разговор окончен. Мужики радостно меж собой забалаболили, но Иван Данилович их не слышал. Он спешил на пристань, собирать людей для подготовки к отплытию…
Глава вторая
Гришка-скоморох
Бывший артельный работник братьев Митяев Гришка был человек битый, но весёлый. Может, поэтому и пригрела его у себя молодая вдовушка Дарья. «Полюбила придурка скомороха!» – бурчали с завистью артельные подельщики. Правда в этих словах была…
От старого скоморошьего занятия у Гришки осталось многое. Любил он людей смешить, может, и сам того не понимая. То шапку оденет как-нибудь наискосок – смотреть без смеха невозможно. То с мальчишками во дворе возится, возится – и построит какую-нибудь мельницу с крыльями, «для полёта». И сколько он не артельничал с мужиками, всё равно своим среди них не стал. А когда те собаку поймали и на берегу Волхова костёр развели, чтобы её съесть, он один за животинушку, вступился.
– Уйди, придурок! – говорят. Он вдруг расплакался, слыша, как скулит бедная. Стал гладить дворняжку по голове, причитать:
– Люди вы или не люди? Посмотрите, какие у неё глаза жалостливые! Отпустите! Ну, отпустите, мужички!
– Уйди, придурок. Съедим, тогда отпустим! – отвечали мужики, запихивая выгнувшегося от боли пса в мешок, держа его грубо за шкирку, будто кошку.
– Ох, ты, Божешь мой, беда-то какая, – причитал Гришка, семеня позади.
– Уйди! Сам есть не будешь, дай другим. Уйди!…
Гришка жалел божью тварь. Тем более, что приметил он этого пёсика ещё зимой. Сидел тот худенький, в поле, на февральском ветру, прямо на голом насте. Лапки грязные, глаза печальные. Гришка ещё подумал, у пёсика, как и у него самого, зубы на морозе ноют. Он кинул ему кусочек хлеба, но тот есть не стал, продолжая смотреть на доброго человека. И вот, теперь этого бедненького пёсика несут на съедение.
– Если сейчас не отстанешь, в глаз дадим! – рычали, огрызаясь на Гришку мужики, предвкушая закуску.
Вечером у вдовушки на печке Гришка вновь пустил слезу, вспоминая съеденного пёсика. Даже баба его вместе с ним всхлипнула.
– Они ведь, как и я, тоже – люди крещёные, а какие поступки совершают. Нет, как не ходил в храм, так, наверное, и не сподоблюсь никогда, – рассуждал он. – Как представлю, что рядом со мной эти молиться станут, а у них изо рта собачатиной пахнет. Нет, не могу…
– Так еретиком и помрёшь, не причастившись, – укоряла его вдовушка. – Бог-то тут причём, если они – грешники! – Она привстала с печи и, посмотрев в угол, где висели иконы, перекрестилась. – Прости, Господи…
– Да и к кому я там пойду со своим душевным сумневательством? – не унимался еретик. – Не-ет, я ещё не встретил такого батюшку, у которого причаститься можно…
Деревня из которой был Гришка родом стояла далеко от городов. Возле самой Литовской границы. Оттого крещение в ту пору до них не дошло. После очередного набега чуди произошел страшный пожар. Стало деревенским совсем невмоготу от горя. И ушли они всем скопом со скарбом и детишками подальше от пепелищ. Принялись по земле колесить и скоморошить для прокорма. С ними был и Гришка, тогда ещё совсем малой.
Исколесили они по Руси своим хором все дороги и земли. Научился он за это время всяким премудростям – и на гуслях играть, и в дудки-свирели дудеть, маски вырезать из дерева, свистульки лепить, штукарства премудрые показывать. Воробья на ладонь положит, в кулак сожмет, дунет, раскроет, а там – ничего. Вот народ дивится-то… Мог через голову кувырнуться и опять на ноги встать, мог изо рта огонь с дымом выпустить, люд со страху разбегался; мог верёвку так заплести, ни один хитрец не расплетёт, а он, чуть дёрнул – она и освободилась. А рассказов и басен знал всяких – немыслимо. Сколько песен с частушками – не счесть. Слово любое скажи, он с него начнёт и оборотец затейливый выдаст. В общем, чудачил по Руси вволю, но как-то в одном селении, на Масленицу, случилась беда…