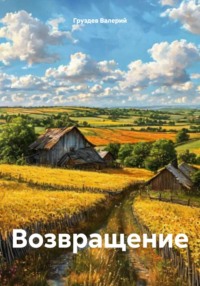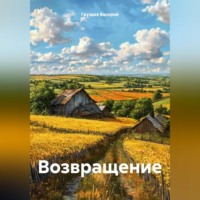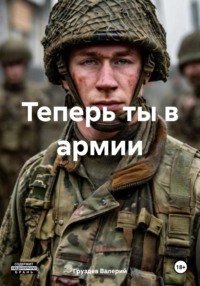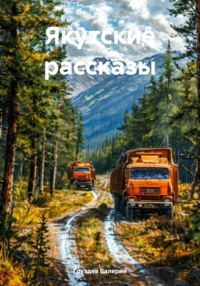Полная версия
Последний романтик

Груздев Валерий
Последний романтик
Крылья
Есть такой расхожий писательский штамп: «Книга, изменившая судьбу». Так говорят о какой-нибудь книге, благодаря которой, или под влиянием которой, человек приобретает цель, или идею, которая определяет всю его дальнейшую жизнь.
Такая книга была и у Зуева.
Никто в семье не помнил, откуда в домашней библиотеке появилась эта книга. Тем более не знал этого и Зуев – он наткнулся на неё, ещё не научившись толком читать, а читать Зуев выучился рано, ещё до школы. Таким образом, для Зуева эта книга существовала всегда, как Библия. Книга стояла на одной из дальних полок книжного шкафа, терпеливо дожидаясь, когда юный Зуев обнаружит её, бессистемно роясь во взрослых книгах в поисках интересных картинок.
Эта была ничем не примечательная книга в скучной серой обложке – воспоминания советского авиаконструктора Александра Яковлева «Записки авиаконструктора». Такие книги пачками издавались в Советском Союзе: все маршалы, академики, артисты и любые мало-мальски известные люди писали воспоминания. Литературная ценность таких мемуаров была сомнительна, да и писали их чаще всего не сами авторы, а нанятые ими «литературные негры».
К этой категории относилась и книга, найденная Зуевым. Но кроме сухого текста воспоминаний авиаконструктора, книга содержала несколько вкладок с черно-белыми фотографиями. На них и наткнулся случайно Зуев, перелистывая книгу. Бог ты мой, что это были за фотографии! Современному поколению, избалованному Интернетом, когда для получения любого интересующего изображения достаточно сделать пару кликов «мышкой», не понять охватившего Зуева восторга, когда он увидел эти фотографии.
На фотографиях были изображены самолёты. Начиная от самых первых неуклюжих «этажерок», продолжая самолётами-бипланами 20-30-х годов, затем самолётами времен второй мировой войны и заканчивая современными реактивными самолётами. Под каждой фотографией приводилось краткое описание и история создания этого самолёта. Также в книге были фотографии самых известных конструкторов и лётчиков.
Зуев пропал. На протяжении всех лет, пока Зуев учился в школе, не было дня, чтобы он не вытаскивал эту книгу и в тысячный раз перелистывая страницы, любовался силуэтами истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и самолётов-разведчиков. Ничего в мире для Зуева не было прекрасней, чем зрелище летящего самолёта и не было лучше профессии, чем профессия лётчика.
К первому классу, Зуев знал все типы и марки самолётов. А к третьему классу, на уровне хорошего эксперта-историка мог рассказать, чем отличается, допустим, немецкий истребитель «Мессершмитт-109» от истребителя «Фокке-Вульф-190», или советский истребитель «Як-3» от «Ла-5». А лица авиаконструкторов Туполева и Петлякова, летчиков Чкалова и Громова, Анохина и Коккинаки были для Зуева такими же родными и привычными, как лица бабушек, дедушек, тёток и дядьев на семейных фотографиях.
Книгу Зуев зачитал до дыр. Серая обложка не выдержала и отвалилась. Пришлось матери Зуева нести книгу в переплётную мастерскую, где её снабдили новенькой кустарной обложкой красного цвета, уже без названия. Так она и стояла на полке у Зуева, занимая почетное место среди других, найденных им книг-воспоминаний авиаконструкторов: их на удивление оказалось много. Но эта книга была главная и лучшая, как первая любовь.
Естественно, что вопроса «кем быть?» для Зуева не существовало: только летчиком! Или лётчиком-испытателем. Ну, на худой конец, авиаконструктором. А лучше всего: лётчиком-авиаконструктором! Хотя, такой профессии, кажется не существует.
***
Неудивительно поэтому, что в восьмом классе, когда Зуев узнал, что в их городе под эгидой ДОСААФ существует аэроклуб, он тут же пошёл туда записываться.
(ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Так в Советском Союзе называлась организация, занимавшаяся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи. При ДОСААФ существовали курсы водителей, парашютистов, радистов, аэроклубы, стрелковые тиры и т.д. – прим. Автора).
Аэроклуб размещался в старинном особняке в центре большого приволжского города, где жил тогда Зуев. В коридоре здания по стенам были развешаны фотографии героев-летчиков, занимавшихся в этом аэроклубе, в том числе фотография первой женщины-космонавта.
Восьмиклассников принимали в парашютную секцию. После курса теоретической подготовки они должны были совершить по три прыжка с парашютом – это была первая ступень подготовки для тех, кто мечтал связать свою жизнь с небом.
(Вообще, в Советском Союзе молодёжью, а особенно её патриотическим воспитанием, занимались не на словах, а на деле. Кто сейчас поверит, что тогда любой восьмиклассник мог прийти и записаться в парашютную секцию и совершить, абсолютно бесплатно, три прыжка? – прим. Автора).
Зуеву понравилась строгая, почти военная дисциплина в парашютной секции: за каждое пропущенное занятие безжалостно отчисляли.
Изучив устройство парашюта Д-5 (десантный, пятая модель) и самостоятельно, под руководством инструктора, уложив его каждый для себя (в том была особая ответственность, но по молодости лет тогда он её не прочувствовал), курсантов, как их называли в аэроклубе, и это особенно нравилось Зуеву, повезли на аэродром.
На аэродроме курсанты сначала прыгнули с парашютной вышки, нацепив полную парашютную подвеску и съехав вниз по полого натянутому канату. Потом, с помощью установленного на земле куска обшивки самолёта Ан-2 с вырезанной в нем дверью, курсантам показали, как нужно правильно покидать самолёт и группироваться при этом.
Выпрыгнув из этой двери на землю в стойке со сжатыми ногами и прижатыми к груди руками, курсанты заучивали порядок действий при прыжке, громко крича:
– Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три! – так отмерялись положенные три секунды до раскрытия парашюта, потому что если кричать просто:
– Один, два, три! – получится слишком быстро.
– Кольцо! – и резко дёрнуть металлическую скобу, раскрывающую купол основного парашюта.
– Купол! – надо было задрать голову и убедиться, что парашют раскрылся и купол надулся.
– Красная! – при этом надо было выдернуть красную предохранительную чеку, отключающую механизм автоматического раскрытия парашюта.
(В принципе, за кольцо раскрытия основного парашюта при использовании принятой в то время системы десантирования можно вообще не дергать, потому что парашют раскрывается сам, при помощи вытяжного фала, который одним кольцом прикрепляется к проволоке, натянутой вдоль кабины самолёта, а другим концом, к вытяжному устройству парашюта – при покидании самолёта фал вытягивает парашют. Но курсантов все равно учат дёргать кольцо, это вбивается в голову на уровне инстинкта, на случай если во время последующих прыжков придется прыгать с парашютом, не имеющим вытяжной системы. Так вот, при прыжке с парашютом без вытяжной системы, если по какой-то причине человек не дернет кольцо, допустим потеряет сознание или впадёт в ступор, парашют все равно раскроется при достижении минимальной заданной высоты с помощью специального автоматического устройства. Это устройство в виде жестяной коробки висит на груди у парашютиста и из него торчит предохранительная чека красного цвета. Если парашютист все-таки не забудет дернуть вытяжное кольцо парашюта и когда он убедится, что купол раскрылся, он должен выдернуть эту красную предохранительную чеку, чтобы принудительно отключить механизм автоматического открытия парашюта. Для этого курсанты и кричат на тренировке:
– Красная! – прим. Автора)
После многократного повтора этих действий и доведения до автоматизма, подготовка была закончена, назавтра были назначены прыжки.
Может по причине юности, а может потому, что все делалось среди таких же сверстников, Зуев совершенно не волновался перед прыжком. Единственным опасением была теоретическая возможность использования запасного парашюта. Запасной парашют висел на животе в брезентовой сумке, и как объяснял инструктор, в случае если основной парашют не раскроется, нужно было самостоятельно расстегнуть клапан сумки запасного, взять обеими руками шелковое полотно парашюта и как можно выше подбросить его над собой, надеясь, что оно само раскроется под воздействием набегающего воздушного потока. Этот момент Зуев представлял себе нечетко, плохо понимая, как он будет, падая с высоты 800 м с нераскрытым основным парашютом, занемевшими на морозе руками раскрывать запасной парашют – он решил, если основной парашют вдруг не раскроется, даже не пытаться открыть запасной, положившись на судьбу.
На следующий день, одетый по совету инструктора в старый ватник, меховую кроличью шапку, завязанную под подбородком и валенки, закреплённые к ногам при помощи шнурка, продетого в специально сделанные под него отверстия, Зуев приехал на аэродром, располагавшийся на окраине города. Был февраль – день был серый и ветреный, у земли пуржило, но инструктор уверял что наверху ветра не будет. Человек пятнадцать курсантов, зуевских ровесников, подбадривая друг друга загрузились в самолёт Ан-2, выкрашенный в зелёный цвет с надписью «ДОСААФ» на боку, и расселись на скамейки вдоль бортов, пристегнувшись карабинами к проволоке вытяжной системы. Зуеву доводилось летать на самолётах, в том числе и на таком, когда в каникулы его возили к дедушкам и бабушкам, поэтому все ему в этом самолете было привычно. Самолет поднялся в воздух, набрал высоту и начал заходить на круг над аэродромом, над дверью загорелась красная лампочка. Инструктор встал со своего места, прошел в хвост самолёта, открыл дверь и встав возле неё махнул рукой:
– Первый пошел!
Курсанты поднялись, пошли к выходу и как роботы, без заминок, один за другим, предварительно сгруппировавшись выпрыгивали из самолёта – от них в кабине оставались только болтавшиеся на ветру вытяжные фалы парашютов. Зуев не успел испугаться, когда подошла его очередь, все происходило быстро, как во сне и как будто помимо его воли, его подталкивали сзади и нетерпеливо сопели другие курсанты. Твердя про себя:
– Кольцо, купол, красная, кольцо, купол, красная – он подошел к порогу и взялся обеими руками за края дверного выреза, словно сопротивляясь этому неизбежному, не зависящему от него процессу. Через открытую дверь в кабину врывался ледяной воздух и рев двигателя самолета, высота не чувствовалась, потому что серое февральское небо слилось с серым снегом внизу. Обреченно выдохнув, Зуев, согнув ноги в коленях и сложив руки на груди, взявшись за кольцо, оттолкнулся ногой от самолёта и шагнул в пустоту.
Почти сразу, не успев ощутить свободного падения, Зуева резко дернула подвесная система раскрывшегося парашюта и он повис на лямках под куполом, раскачиваясь как на огромных качелях. Лямки подвески больно врезались в бедра и сдавили пах, меховая шапка сползла на глаза, валенки повисли, отделившись от ступней, и если бы не предусмотрительно завязанные шнурки, слетели бы с ног и приземлились самостоятельно. Зуев не успел ничего рассмотреть вокруг, потому что земля быстро приближалась, он боялся пропустить момент встречи с ней из-за снежной пелены, скрывающей границу неба и земли. Наконец земля надвинулась совсем близко, заполнила все вокруг и Зуев мягко ткнулся валенками в снег, сразу завалившись при этом, как учили, набок и начал тянуть на себя стропу, чтобы погасить купол. Все прошло гладко, он не ощутил ни особенного восторга, ни страха: он просто сделал первый, необходимый шаг на долгом пути к своей цели.
***
Для тех, кто хотел стать летчиком, после парашютной секции в аэроклубе существовала следующая ступень подготовки – так называемое самолётное звено. Набор в самолётное звено осуществлялся среди девятиклассников в начале каждого учебного года – предполагалось, что пройдя курс теоретической подготовки и практических полётов на учебных самолётах, подготовленные таким образом ребята после десятого класса без проблем должны поступить в лётные училища.
Занятия в самолётном звене начинались в сентябре. Всю осень, лето и весну после уроков Зуев ездил в здание городского Дворца пионеров, где курсантам читали курс аэродинамики, аэронавигации и конструкции самолёта. В школе Зуев не любил физику и математику, предпочитая гуманитарные науки, но сухие формулы и схемы, объясняющие процесс полёта самолёта, вызывали у него живейший интерес.
Весной, после сдачи экзаменов по пройденному курсу теоретической подготовки, курсантов повезли на учебный аэродром, находившийся в райцентре в 70 километрах от областного города, где жил Зуев. На аэродроме им наконец-то, вживую показали учебный самолёт Як-52, на котором они должны были научиться летать – маленький, двухместный, с пропеллером, похожий на истребители времен второй мировой войны. По одному их сажали в переднюю кабину, пристёгивали и инструктор провозил их по рулежной дорожке аэродрома, не взлетая, однако, в воздух – полёты должны были начаться летом, после окончания учебного года.
Одев ещё влажный после предыдущего курсанта настоящий кожаный летный шлем, точь-в-точь такой же, в какой были одеты лётчики на фотографиях в любимой книге, только без очков, Зуев забрался в кабину и увидел знакомые приборы – он знал назначение каждого прибора и рычага в самолёте по картинкам в учебном пособии, которое они зубрили во время теоретической подготовки. Инструктор помог Зуеву пристегнуться, сел в заднюю кабину, и они порулили по полю.
Инструктор дал газ и самолёт помчался, подпрыгивая на неровностях лётного поля, он почти взлетал. Сидя в передней кабине, пристёгнутый по всем правилам ремнями к сиденью и к парашюту под ним, в шлеме, Зуев испытывал дикий восторг: он чувствовал себя лётчиком в кабине боевого истребителя. Прервав разбег и не дав самолёту взлететь, инструктор сбросил газ, Зуеву было жаль, что они не взлетели, тем более что момент взлёта был так близок, но он утешал себя тем, что уже скоро он полетит по-настоящему, оставалось только дождаться лета.
После окончания учебного года, в июне, Зуев приехал в летний тренировочный лагерь, который располагался прямо на учебном аэродроме. Три месяца курсанты должны был прожить в деревянных, похожих на амбары бараках, проходя курс практической лётной подготовки, который должен был завершиться самостоятельным вылетом на учебном самолёте. В лагере курсантов переодели – выдали настоящие лётные комбинезоны тёмного синего цвета и такого же цвета шикарные лётные куртки с молниями, также им выдали настоящее военное обмундирование – сапоги, галифе, гимнастёрки, пилотки и ремни со звездой: они должны были носить форму, когда не будет полётов. Зуев был счастлив – это уже была не игра и не мечты, все было всерьез.
На следующий день утром курсантов повезли на автобусе в город на последнюю медкомиссию. В тот же день должен был состояться их первый полёт.
Зуев без проблем прошел всех врачей, включая испытания вестибулярного аппарата на центрифуге – вертящемся стуле – встав с которого, Зуев как ни в чем ни бывало, сделал несколько шагов, даже не покачнувшись: вестибулярный аппарат у него был отличный.
Зуев задержался в очереди у рентгенкабинета, и запыхавшись, последним, забежал в кабинет главврача, который должен был поставить итоговую подпись о его допуске к полётам. Он начал что-то весело объяснять о причинах своего опоздания – главврач, пожилая женщина с добрым лицом и строгим взглядом внимательно посмотрела на него и отложила ручку, которой уже готовилась подписать его карточку…
Здесь самое время сказать, что Зуев имел врождённый дефект речи – он слегка заикался, причем иногда заикание пропадало совсем, он даже играл в постановках школьной самодеятельности, иногда же Зуев запинался, особенно когда слово начиналось с согласной буквы. В общем, он не придавал этому значения и научился контролировать себя. Разговаривая с главврачом, он удвоил согласную букву в одном из слов. Лучше бы он ничего не говорил главврачу – он мог просто подписать карточку и уйти, но пребывая в счастливо-нетерпеливом состоянии в предвкушении первого полёта, он на мгновение утратил контроль.
Главврач внимательно посмотрела на него и отложила ручку, которой уже готовилась подписать его карточку.
– Милый мой, – сказала она, – с ларингоспазмами я не могу допустить тебя к полётам.
Зуев сначала не понял масштабов обрушившейся на него катастрофы, он даже не знал, что такое ларингоспазмы. Когда ему объяснили, что это значит, он принялся убеждать главврача что это пустяк, и он может разговаривать абсолютно нормально, ему было всё еще весело. Но главврач была непреклонной.
– Мы должны быть уверены, что в напряжённой ситуации во время полёта, при переговорах с землёй лётчик сохранит контроль над своей речью, – говорила она (а ведь были, были времена, когда самолёты не имели радио, и почему Зуев не родился раньше?).
В кабинет был вызван старший инструктор, сопровождавший курсантов на медкомиссию. Он был краток и строг:
– Сдай форму и можешь быть свободен, ты отчислен.
Зуев не верил своим ушам, ведь он уже сидел, пристёгнутый ремнями, в шлеме, в кабине мчавшегося по взлетной полосе самолёта! Он уже почти стал лётчиком! Напрасно Зуев умолял оставить его, разрешить хотя бы один полёт. Главврач и старший инструктор были непреклонны.
– Мы готовим кадры для лётных училищ, – сказали ему, – с таким дефектом тебя не примут в училище, а значит, мы не имеем права тратить время и деньги на твою подготовку.
Удар был силён. Всё еще не веря, что это правда и ему никогда не стать лётчиком, Зуев, оглушённый, вышел из кабинета и побрёл к автобусу, где галдели весёлые курсанты – все они прошли медкомиссию.
Он ехал с ними в автобусе, всего час назад он был одним из них, а теперь стал чужим – они ехали, чтобы взмыть в небо, а он оставался на земле.
Приехав в лагерь, Зуев переоделся в свою одежду, и ни на кого не глядя, еле сдерживая слёзы, пошёл на электричку, чтобы уехать домой – мечта стать лётчиком была неосуществимой. Зря он тогда нашёл эту книгу.
***
– Как же так? – спросит нас придирчивый читатель, – Мало ли препятствий может подстерегать человека на пути к заветной цели? Если ваш Зуев так любил небо и самолёты, почему же он сдался и не боролся?
Ведь все знают про безного летчика Алексея Мересьева. Менее известен, но оттого не менее велик подвиг британского пилота Дугласа Бадера, также без ног летавшего на «Спитфайре».
Можно же было лечиться, сражаться со своим организмом. Известно немало примеров побеждённого заикания. Существуют как официально признанные методы, например лечебного дыхания, так и не официальные практики типа гипноза и заговора, почему было не попробовать их?
Все помнят фильм «Противостояние», и как там лечили от заикания немецкого агента Кротова?
– К-к-к-ротов! Мать вашу! – кричал герой Алексея Болтнева, извиваясь под действием электрошока.
Ну да, это были фашисты, бесчеловечные методы и всё такое, но результат-то налицо!
В конце концов, если не получилось стать лётчиком, можно же было пойти в авиационный институт и стать авиаконструктором.
А любительская авиация? Сейчас любой может пойти в частную лётную школу, получить пилотскую лицензию и летать по выходным. А полёты на планерах, дельтапланах и парапланах вообще не требуют ни лицензии, ни справки о здоровье.
Почему ваш Зуев не пошёл по этому пути, если он так уж хотел летать?
– Стоп. Стоп. Стоп, – скажем мы придирчивому читателю, – А с чего вы взяли, уважаемый читатель, что наш Зуев сдался и не боролся?
Ведь Зуев был идейным комсомольцем, а такие книги как «Повесть о настоящем человеке» о безногом лётчике и «Как закалялась сталь», написанная слепым и парализованным Николаем Островским, входили в обязательную школьную программу.
***
– Полоса четыре, левая, заход по ИЛС – сказал второй пилот Зуеву, и выставил на автопилоте посадочный курс.
– Принял, – сказал Зуев, – и протянув руку, на ощупь перекинул тумблеры на верхней панели. В салоне пассажирского авиалайнера зажглись сигнальные лампочки «Не курить» и «Пристегнуть ремни».
– Скорость двести сорок, – доложил второй пилот, выставляя заданную скорость на автомате тяги.
– Закрылки три градуса, – сказал Зуев второму пилоту и лёгким движением штурвала совместил в центре дисплея авиагоризонта розовые планки директорных стрелок системы захода на посадку.
Самолёт начал первый разворот для захода на посадку в международный аэропорт города Сочи.
Зуеву недавно исполнилось пятьдесят лет. Во времена, когда Зуев только начинал летать, это был критический возраст для пилота. Но в последнее время возраст выхода на пенсию пилотов гражданской авиации существенно сдвинулся, а учитывая свой непростой и длинный путь в левое кресло командира корабля, Зуев собирался летать ещё долго, пока позволяет здоровье.
После последнего разворота, когда самолёт снижался над морем в направлении полосы, выпустив шасси и закрылки на пятнадцать градусов, они попали в грозовой фронт. Далеко впереди Зуев увидел оранжевые огни посадочной полосы, они то исчезали в черноте, то появлялись вновь. Видимость резко упала, самолёт начало ощутимо потряхивать. Несмотря на это, Зуев выключил автопилот и начал вручную заводить самолёт на посадку, парируя порывы бокового ветра лёгкими движениями штурвала.
Зуев был пилотом старой школы, в душе он понимал, что будущее за автоматическими системами, когда по выставленному курсу самолёт самостоятельно взлетает, разворачивается, снижается и садится при минимальном участии пилота, но упрямо не желал превращаться из лётчика в оператора бортовых систем, предпочитая при малейшей возможности управлять и сажать самолёт вручную. По этой же причине он не принимал модных нововведений, вроде замены штурвала джойстиком на «Эрбасах» и «Суперджетах», больше доверяя привычному штурвалу «Боинга». Более молодые пилоты, вроде его второго пилота, подтрунивали над ним, называя «динозавром». Руководство авиакомпании также не одобрительно относилось к привычкам Зуева, но поделать ничего не могло: Зуев, ведущий пилот-инструктор авиакомпании, продолжал настаивать на том, что лётчик должен владеть самолётом как своим телом, приводя в качестве аргумента коллегам недавнюю катастрофу «Суперджета» в Шереметьево, когда, в общем-то в несложной ситуации, не имеющий навыков ручной посадки пилот так «приложил» самолёт об полосу, что стойки шасси пробили топливные баки вызвав пожар.
Когда до земли оставалось сто метров и самолёт находился на посадочной глиссаде, стало совсем туго: шторм настиг их, видимость упала почти до нуля, самолёт болтало. Над точкой принятия решения, посадочные огни исчезли совсем. Второй пилот, положив руку на секторы газа двигателей, готовый моментально добавить обороты, спросил:
– Решение, командир. Уходим на второй круг?
– Нет, – Зуев отрицательно покачал головой, напряжённо вглядываясь в окружающую их черноту, он знал, чувствовал, что полоса должна быть прямо перед ним, – Садимся, закрылки двадцать, – Он доверял своему чутью лётчика и никогда не подводившему его глазомеру.
Мгновение спустя он увидел прямо под собой мелькнувшие в пелене дождя огни торца посадочной полосы. Зуев убрал газ, рулями удерживая готовый свалиться на крыло под порывами ветра самолёт.
Когда колёса шасси толкнулись об бетон полосы, Зуеву почудилось, что он слышит аплодисменты из пассажирского салона, хотя он не мог слышать их из-за воя включенной системы реверса двигателей, и тряски бегущего по полосе, гасящего скорость самолёта, но он всё равно знал, что пассажиры сейчас радостно хлопают в ладоши. Зуев не одобрял и не понимал этой новой моды пассажиров, подчерпнутой из голливудских фильмов. Когда он начинал летать, пассажиры не хлопали. Тогда, в Советское время, полёт на самолёте был немногим более сложным для обычного человека делом, чем поездка не междугороднем автобусе: летали все и отовсюду, почти в каждом областном городе был аэропорт, в отличие от сегодняшних времен, когда авиаперелёты стали уделом только жителей больших городов: состоятельных туристов, бизнесменов или командировочных.
К тому же самолёт ещё не погасил скорость, и пока он бежал по полосе, это считалось полётом и следовало быть готовым ко всему. Зуев помнил катастрофу А310 в Иркутске, в 2006-ом, когда самолёт выкатился за пределы полосы, врезался в гаражный комплекс, разрушился и сгорел, унеся с собою жизни 125 человек, а также недавнюю аварию во Внуково Ту-214 «Красных крыльев», слава Богу, без пассажиров.
«Так что, если уж им так нравится хлопать, пусть хлопают, когда самолёт погасит скорость», думал Зуев, изо всех сил удерживая мчащийся по полосе самолёт педалями от порывов бокового ветра, старающегося сдуть их с начерченной на бетоне пунктирной осевой линии.
Когда самолёт зарулил на стоянку, Зуев включил микрофон и произнес дежурную фразу, которой он много лет привык заканчивать полёт: