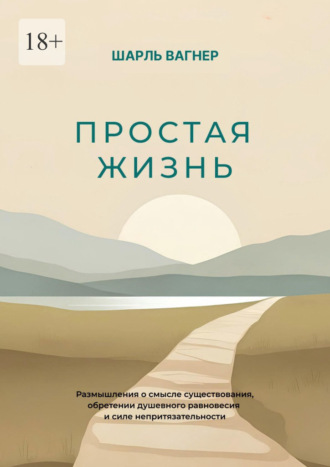
Полная версия
Простая жизнь
Это значит стремиться выполнить самое высокое человеческое назначение. Все стремления людей к справедливости и просветлению были по сути и движением к более простой жизни. И простота старинных эпох – в обычаях, в искусстве, в образе мыслей – сохраняет непреходящую ценность лишь потому, что позволила с особой чёткостью высветить в человеческом существовании несколько важнейших чувств и непреходящих истин. Мы вправе восхищаться и беречь ту простоту, но не стоит думать, что её волшебная сила заключалась только во внешних проявлениях. Если нам и не суждено воспроизвести те образы и формы, что были у предков, мы вполне можем унаследовать или возродить их дух. Наши пути не совпадают с их путями, но конечная цель остаётся прежней. Всё равно ведь мореплаватель ориентируется по Полярной звезде, будь он на парусном судне или на пароходе. Главное – двигаться вперёд к этой цели, опираясь на сегодняшние возможности; ведь именно когда мы отвлекаемся от заданного курса, жизнь наша становится запутанной и сложной.
Если мне удастся передать другим это воистину духовное понимание простоты, моё усилие не будет напрасным. Некоторым читателям придёт мысль, что данная идея может и должна пронизывать наши обычаи, нравы, само наше развитие, и тогда они станут взращивать её в своих сердцах, принося в жертву те из привычек, которые мешают нам оставаться людьми.
Увы, нас отделяет от идеала истины, справедливости и добра – того, что должно согревать и оживлять наши души, – слишком много ненужной суеты. Все эти мелочные заросли, под предлогом оберегать наше счастье, в итоге лишь заслоняют нам солнце. Когда же у нас хватит мужества ответить всем обманчивым соблазнам нашей сложной и бесплодной жизни словами мудреца: «Отойди, ты загораживаешь мне свет»?
Париж, май 1896
Наша сложная жизнь
У Бланшаров всё вверх дном – и причина ясна: во вторник мадемуазель Ивон выходит замуж, а сегодня уже пятница! Целый поток гостей с подарками и торговцев с узлами без конца снуёт туда-сюда, слуги выбились из сил, а домочадцы и сами молодые словно вообще перестали жить дома. Утром – портнихи, модистки, обойщики, ювелиры, декораторы, поставщики. Потом – беготня по учреждениям, где надо отстоять очередь, рассеянно глядя, как клерки тону́т в бумагах. Если повезёт вырваться, мчишься переодеваться к череде официальных обедов: помолвка, представление родственникам, заключение брачного договора, приёмы, балы… И только к полуночи возвращаешься, уставший и измученный, чтобы застать ещё одну гору посылок и целую уйму писем: поздравления, пожелания, согласия, отказы от дружек и шаферов, извинения опоздавших поставщиков… А тут ещё в последнюю минуту какое-нибудь несчастье: то скоропостижная смерть, из-за которой ломается вся церемония, то простуда у певицы, которая должна была выступать…
Бедные Бланшары! Они так и боятся, что не успеют всё уладить, хотя были уверены, что предвидели каждую мелочь.
Вот уже месяц они живут в таком темпе – ни передохнуть, ни полчаса спокойно посидеть, ни на минуту сосредоточиться. Нет, это не жизнь!
Но, к счастью, есть бабушкина комната. Бабушке скоро восемьдесят; много трудов и много страданий выпало на её долю, и теперь, благодаря великой мудрости и доброму сердцу, она всё встречает с мирным спокойствием. Сидит в своём кресле, погружённая в тихие раздумья, и суета, бурлящая во всём доме, словно отливает от её двери. У порога этого убежища голоса стихают, шаги невольно становятся тише. Когда же жених с невестой хотят хоть на мгновение спрятаться от всего, они бегут к бабушке.
– Ах, детки мои! – приветствует она их. – Совсем вы замотались. Присядьте хоть немного, побудьте вдвоём. Всё это хлопотное – пустяки, не позволяйте им вас поглотить: оно того не стоит.
Они и сами это хорошо знают. Сколько раз за последние недели их любовь уступала место всяким формальностям и бессмысленной суете! Будто сама судьба решила в этот решающий час оторвать их от главного и тяготить бессчётными мелочами. Они от всей души соглашаются с бабушкой, когда та, с улыбкой и лаской, молвит:
– А и вправду, милые мои, мир становится ужасно сложным, и счастливее от того никто не делается – скорее наоборот.
Я тоже согласен с бабушкой. От колыбели до могилы – и в насущных делах, и в радостях, и во взгляде на себя и на мир – человек нынешнего времени вынужден идти по бесконечному лабиринту сложностей. Ничто уже не остаётся простым: ни поступки, ни мысли, ни радости – даже сама смерть. Мы сами так усложнили свою жизнь, что отрезали себе немало некогда доступных удовольствий. Полагаю, тысячи наших сограждан, страдающих от чрезмерной искусственности бытия, будут благодарны, если мы сумеем выразить их недовольство и оправдать ту смутную тоску по естественности, что не даёт им покоя.
Давайте для начала рассмотрим несколько фактов, которые ярче всего показывают нашу мысль.
Первое, что бросается в глаза, – это невероятное множество материальных потребностей. Все соглашаются, что по мере накопления благ наши запросы только растут. Сами по себе они не всегда зло: ведь если мы хотим мыться, носить свежую одежду, жить в чистом и проветриваемом доме, питаться здоровой пищей, развивать ум, – это же признак цивилизованности. Но наряду с такими разумными желаниями есть и другие, губительные, похожие на паразитов, которые, раз поселившись в нас, стремительно множатся и полностью берут нас в плен.
Если бы нашим предкам кто-то сказал, что когда-нибудь мы получим в своё распоряжение все те приспособления и силы, какие используем сейчас, чтобы обеспечить материальные удобства и защитить свою жизнь, они наверняка ожидали бы, что мы станем и свободнее, и счастливее, а борьба за насущное поубавится. Может, даже решили бы, что это упрощение жизни непременно приведёт к более высоким нравственным устоям. Но ничего такого не случилось. Не стало больше ни благожелательности, ни братства, ни энергии добра. Скажите, разве ваши сограждане выглядят нынче довольнее и спокойнее за будущее, чем их деды-прадеды? Не спрашиваю, есть ли у них для этого основания, – спрашиваю, ощущают ли они эту уверенность? Мне кажется, напротив, большинство недовольны своей судьбой и всё глубже увязают в заботах о завтрашнем дне. Никогда проблема хлеба насущного и жилища не стояла столь остро, как сейчас, когда мы, казалось бы, лучше всяких прежних поколений питаемся, одеваемся и обустраиваемся.
Глубоко ошибается тот, кто считает, что вопрос «Что нам есть и пить, во что одеться?» волнует лишь неимущих, которым угрожают голод и бескровный завтрашний день. Для них это естественно, причём у них-то, как ни странно, подход к этой проблеме выходит проще всего. А вот если вы посмотрите на людей, которые только-только выбрались на более-менее обеспеченный уровень, вы увидите, как сильно радость обретённого перекрывается тоской по ещё не обретённому. А уж если заглянуть к тем, у кого состояньица побольше, к богатым с их роскошью, – там озабоченности и волнений ещё больше! По простому закону: чем больше имеешь, тем больше хочется. Чем надёжнее обеспечен твой завтрашний день, тем упорнее ты думаешь, как ещё распорядиться жизнью и как бы надёжнее устроить детей, внуков да и правнуков заодно.
Трудно представить, сколь многогранны страхи и тревоги человека, казалось бы, давно «устроенного».
Вот так, во всех сословиях, пусть и в разной форме и с различной остротой, распространяется общее беспокойство, напоминающее каприз избалованного ребёнка: вроде и доволен, но вечно недоволен.
Раз мы не стали счастливее, то и миролюбивее не стали тоже. Чем больше у человека запросов и желаний, тем чаще они сталкиваются с чужими интересами, и тем ожесточённее становится борьба, если эта причина не слишком-то справедлива. Закон природы – сражаться за кусок хлеба, за необходимость. Да, это жёсткий закон, но в своей жёсткости он в каком-то смысле понятен и ограничивается более «примитивными» формами жестокости. А вот драка за излишества, привилегии, потворство слабостям и роскоши – дело совсем другое. Не голод толкает людей на самые унизительные поступки, а зависть, алчность и тяга к удовольствиям. Чем тоньше и «утончённее» эгоизм, тем он злее. Мы, люди сегодняшнего дня, стали свидетелями обострения ненависти между братьями, и сердца наши не обрели от этого ни малейшего покоя.*
* (Автор, видимо, ссылается на беспощадную вражду сторонников и противников Дрейфуса во Франции.)
Вопрос «Стал ли человек лучше?» остаётся открытым. Ведь суть добродетели в том, чтобы человек мог выйти за пределы собственной пользы. А много ли места остаётся для ближнего в жизни, где правят материальные заботы, искусственные потребности и гонка за своими прихотями, жалобами и честолюбивыми планами? Тот, кто полностью отдаётся во власть желаниям, легко «выкармливает» их до того, что они становятся сильнее его самого. Став рабом собственных аппетитов, он теряет моральный ориентир, утрачивает волю и уже не способен различать и ценить добро. Он сам начинает питать внутренний беспорядок, который рождает и внешнее разрушение. Там, где господствует нравственность, человек управляет собой сам. Там же, где всё подчинено нашим низменным влечениям, нас уже ведут за собой наши страсти. И тогда, шаг за шагом, разрушается фундамент моральной жизни, и само понятие о правильном суде искажается.
Для раба многочисленных и ненасытных желаний приобретение становится высшим благом и источником всех прочих благ. Неудивительно, что в ожесточённой погоне за собственностью мы начинаем ненавидеть тех, кто уже обладает имуществом, а право на собственность порой даже отрицаем, если оно не наше. Но такая зависть лишь подтверждает, насколько мы преувеличиваем важность владения. В конце концов люди и вещи оцениваются по их «рыночной цене» или возможной выгоде. Что не даёт прибыли, то ничего не стоит; а у кого ничего нет, тот – ничто. Честная бедность рискует прослыть позором, а любое грязноватое обогащение не слишком затруднительно выдать за «почётное достижение».
Могут возразить: «Значит, вы всё это отрицаете и хотите повернуть нас вспять, едва ли не к аскетизму?»
Отнюдь нет. Воскрешать прошлое – вещь и опасная, и бессмысленная, а искусство жить – это не уход из жизни. Мы просто хотим высветить одну ошибку, тормозящую человеческий прогресс: веру в то, что приумножение внешнего достатка способно сделать нас счастливее и лучше. Ничего нет ложнее. Наоборот, материальный подъём без духовного противовеса чаще всего принижает способность к счастью и развращает характер – и тысячи примеров могут это подтвердить. Ценность любой цивилизации определяется человеком, который в ней живёт. Если у него нет нравственного стержня, любые достижения лишь усугубляют зло и усложняют социальные проблемы.
Это же правило справедливо не только в области материального благополучия, но и, например, в вопросах воспитания или свободы. Помните, когда-то некто уверял, что стоит только победить тиранию, невежество и бедность – и мир станет почти божественным раем. И сейчас мы слышим похожие пророчества. Но очевидно, что уменьшение нищеты ещё не сделало человечество лучше или счастливее. То же самое мы видим с образованием: скольких сил и средств оно требует, а результат далёк от ожиданий, и наших педагогов это приводит в уныние.
Значит, нам что, закрыть школы и сознательно держать народ в темноте? Вовсе нет. Образование, подобно любому другому изобретению нашего века, – лишь инструмент; всё зависит от того, в чьих руках он окажется. То же и со свободой: она может быть гибельна или животворна – в зависимости от того, как ею распорядятся. Если свобода предоставляется преступникам и легкомысленным людям, можно ли это вообще назвать подлинной свободой? Ведь настоящая свобода – это воздух высшей жизни, а чтобы научиться дышать им, надо пройти медленный и упорный путь внутреннего развития.
Всякая жизнь подчинена закону; чем она драгоценнее и тоньше устроена, тем нужнее закон. Для человека он сперва внешнен, но со временем может сделаться внутренним. Когда человек признаёт внутренний закон и добровольно ему покоряется, он становится созревшим для свободы. Пока же в нас не проснулся этот могущественный «владыка», мы не способны вдыхать воздух свободы: она будет нас пьянить, доводить до безумия и нравственно губить. Тот, кто научился жить по внутреннему закону, не может оставаться под властью принуждения извне – словно взрослая птица не может оставаться в скорлупе. Но если человек ещё не научился управлять собой, он не вынесет жизни в условиях свободы, точно так же как неоперившийся птенец не выживет без надёжной скорлупы. Всё это, по сути, крайне просто, а доказательств тому мы видим всё больше и больше. Но мы остаёмся так же далеки от понимания этих ключевых истин, как и прежде. Сколько найдётся в нашей демократии «великих и малых», которые бы на собственном опыте убедились, что без этого внутреннего закона народ не может сам собой управлять? Свобода – это в сущности уважение, это покорность внутреннему закону, который не зависит ни от желаний сильных мира сего, ни от капризов толпы, а представляет собой высокий надличностный порядок, перед которым и правители в первую очередь склоняют головы. Если не так, свобода оказывается профанацией, а общественная жизнь рассыпается, ведь страна без дисциплины и сдержек скатывается в хаос демагогии.
Если мы задумаемся обо всех причинах, которые вносят сумятицу в нашу жизнь и делают её невыносимо сложной (а их немало, и у каждой своё имя), то в основе увидим одно: мы путаем главное со второстепенным. Материальный комфорт, образование, свобода, вся цивилизация – всё это лишь рама. Но рама не есть сама картина, как и ряса не делает монаха, а мундир – солдата. Картина же – это человек с его совестью, характером, волей. Мы так тщательно украшали и отделывали раму, что начисто позабыли о самой картине – в итоге искажаем, уродуем её. У нас в избытке внешние блага, без которых вполне можно было бы обойтись, а вот в том, что действительно необходимо, мы бедны до крайности. И когда вдруг пробуждаются наши глубины, жаждущие любви, стремления к идеалу, исполнения истинного предназначения, мы ощущаем себя погребёнными заживо под грудой второстепенных вещей, перекрывших нам воздух и свет.
Задача в том, чтобы вернуть к жизни и почёту эту настоящую человеческую суть, всё расставить по местам, не забывая, что главная движущая сила развития человечества – это нравственное совершенствование. Что такое «хорошая лампа»? Не та, что богато украшена и стоит безумных денег, а та, что хорошо светит. Точно так же мы становимся людьми и гражданами не из-за того, сколько у нас имущества и какого сорта развлечения мы можем себе позволить, не из-за нашего интеллектуального уровня или художественного вкуса, и не из-за того, что наслаждаемся независимостью и почётом. Главное – сила нашей моральной природы. И это не сегодняшняя истина, а извечная. Ни в какой эпохе люди не могли освободить себя от заботы о внутреннем состоянии души, сколь бы они ни усердствовали в науках и ремёслах. Меняется облик мира, меняются наши представления, иногда столь стремительно, что нельзя не тревожиться. Но важнейшее – оставаться человеком в центре всех этих перемен, не терять дорогу к цели. А чтобы идти вперёд и не сбиться на чужую тропку, чтобы не навьючивать на себя то, без чего можно обойтись, мы должны быть внимательны к своему пути, к своим силам, к своей верности. И если нужно – упростить кладь, чтобы беспрепятственно двигаться к сути – к тому, что есть наше подлинное развитие.
Суть простоты
Прежде чем говорить о том, как практически вернуться к той простоте, о которой мы все так мечтаем, необходимо понять, что она представляет собой в своей глубинной сути. Иначе нам грозит та же ошибка, которую мы уже разоблачали: путать главное со второстепенным, сливая в одно суть и её внешнюю оболочку.
Часто полагают, что простота обязательно выглядит определённым образом и что именно в этом внешнем облике она и состоит. Считают, будто простота неотделима от бедности, от простенькой одежды, скромного жилья, малых достатков. Но это иллюзия. Только что я прошёл мимо трёх людей: один ехал в карете, двое шли пешком, причём один был без обуви. И вовсе не обязательно именно босой ведёт самую «простую» жизнь. Может статься, что обладатель кареты – человек прямой и непритязательный, не ставящий себя в зависимость от богатства. А тот, кто идёт пешком в ботинках, ни в коей мере не завидует первому и не презирает второго. И в то же время тот, кто бредёт босиком, под своими лохмотьями скрывает ненависть к любой непоказной трезвости, ненавидит труд и воздержание, снедаемый лишь жаждой праздности и лёгких удовольствий. Ведь среди самых неискренних и далёких от подлинной простоты нередко встречаются профессиональные нищие, бродяги, люди-паразиты, вся эта армия угодливых завистников, мечтающих урвать себе кусок – и чем больше, тем лучше – из добычи, какую пожирают «сильные мира сего». Туда же относятся игроки, высокомерные гордецы, скупцы, бессильные куклы страстей, лукавые хитрецы – и совершенно неважно, в каком они положении или сколько у них денег. Не одежда делает человека простым, а сердце. Нет такого слоя общества, у которого было бы исключительное право на простоту; нет такого одеяния, пусть даже самого грубого, которое обязательно служило бы её верной приметой. И нет нужды ей непременно гнездиться в конуре, в лачуге или в келье отшельника. В любой форме жизни, в любом социальном слое, на вершине или у подножья лестницы, мы можем найти и тех, кто живёт просто, и тех, кто не умеет этого делать. Да, у подлинной простоты есть свои привычки, вкусы, приметы, но эти наружные знаки, которые, к слову, легко подделать, не надо путать с самой её сутью и глубинным источником. Простота – это состояние духа. Она кроется в том, что составляет главный смысл нашей жизни. Человек прост, когда его главное стремление – быть тем, кем он по природе должен быть, то есть оставаться искренним, естественным человеком. И это, при всей видимой сложности, не столь невозможно – и в то же время не так уж просто.
По существу, речь о том, чтобы согласовать свои мысли, дела и стремления с законом собственной природы, а через него – и с Высшим Замыслом, по которому нам дана сама жизнь. Пусть цветок остаётся цветком, ласточка – ласточкой, камень – камнем, а человек – именно человеком, а не лисой, не зайцем, не свиньёй, не хищной птицей: в этом весь смысл.
И тут нам придётся сформулировать то, что можно назвать практическим идеалом человека. Везде в природе мы видим, как частицы материи и энергии объединяются ради некой цели: вещество переходит из одной формы в более совершенную. Так же и с жизнью человека: ему даётся «сырьё» – надо превратить его в нечто более высокое. Мы можем сравнить само существование с исходным куском материала. Не так важно, из чего именно он: может быть золото, мрамор, а то и простая глина, – но главное, во что он преобразуется. Из самого драгоценного сырья легко сделать брак, тогда как из дешёвого материала иной раз создают шедевр на века. Искусство – это, по сути, воплощение вечной идеи в преходящей форме. Истинная же жизнь – это воплощение таких высших качеств, как справедливость, любовь, истина, свобода, духовная сила, – в наших будничных делах, какими бы они ни были. И всё это доступно в самых разных условиях и при любом природном даровании. Не в самом достатке или личных преимуществах ценность жизни, а в том, как мы умеем ими распорядиться. Знаменитость не даёт человеку большего, чем простая долгая жизнь; определяющим остаётся качество.
Нужно сказать, что прийти к такой точке зрения не так-то просто. Склонность к простоте не даётся нам по наследству, она достигается с трудом, через внутреннюю работу. Жить простой жизнью, как и мыслить возвышенно, – это значит уметь упрощать. Мы знаем, что наука сводит бесчисленные факты к горстке основных законов, однако этот путь требует целых столетий попыток и ошибок. То же в области морали. Она сперва мешается в нас, мы ищем подход, ошибаемся, пытаемся себя понять. Но в ходе действий, постоянного самоанализа и осмысления своих поступков человек начинает глубже познавать жизнь. Он видит, что её подлинный закон – исполнить своё предназначение. Всякий, кто тратит жизнь на что-то иное – на пустое себялюбие, жажду удовольствий, честолюбие, – распахивает зеленеющий колос и съедает зерно прежде, чем оно вызреет; он не даёт ему принести плод, значит, зря прожигает своё существование. А тот, кто отдаёт свою жизнь делу, превосходящему его личные интересы, тем самым сохраняет и приумножает её. Все наши моральные заповеди, которые поначалу кажутся придуманными лишь для того, чтобы испортить человеку удовольствие от жизни, на самом деле преследуют одну цель: уберечь нас от бесцельного прозябания. Поэтому они раз за разом возвращают нас к одним и тем же тропам, говорят одно и то же: «Не дай жизни истлеть впустую; помоги ей принести плод. Научись отдавать её, чтобы не сжечь её втуне!» Такова итоговая мудрость всего человечества, и каждый из нас заново переживает её на своём опыте, чем и дороже она становится.
Когда этот свет озаряет человека, он постепенно укрепляется на пути нравственного совершенствования. Теперь у него есть внутренний ориентир, к которому можно сводить всё суетное и сбивчивое. И из смутного, колеблющегося существа он всё больше вырастает в человека цельного, обретает простоту. Потоком тех же усилий, которые день ото дня подтверждают и укрепляют в нём это внутреннее начало, его воззрения, привычки, поступки преображаются.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

