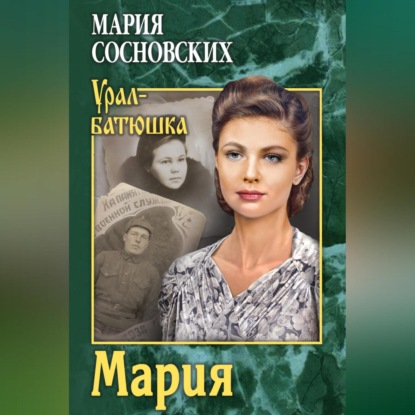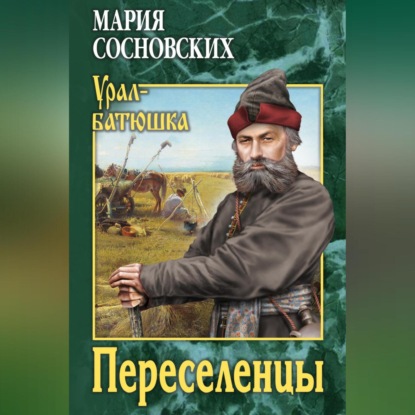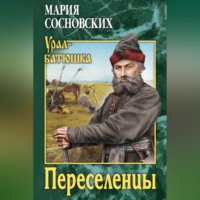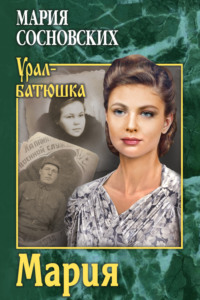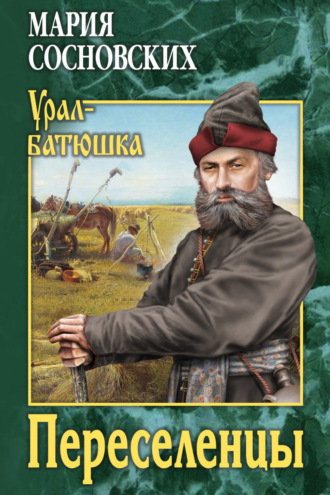
Полная версия
Переселенцы
И чем дальше думал Петр, тем ясней для него становилось: и ласковый прием, и щедрое угощение на Куликовских хуторах, и старания Соломии оттянуть его отъезд – все это неспроста.
Да, факт был налицо: грабителей навела она. Надо быть осторожным, от них можно всего ждать. А от этой ведьмы Соломии тем более. Ну, слава богу, пока все обошлось благополучно, но могло быть совсем скверно, и звали бы тогда уж не Устинов, а Петров лог. Эти негодяи в живых бы не оставили ни за какой откуп.
– Ты чё, Петро, ночесь шибко гнал на Буянке? – спросил отец, увидев Петра, возвращавшегося из кузницы. – Ты гляди, так ведь и загнать коня недолго, а другого такого где возьмешь-купишь?
– Ты, тятя, не спал, что ли, когда я приехал?
– Да уж какой нам с матерью сон, когда тебя дома нет… В одиночку все ездишь, а народишко здесь всякий… Опасно одному-то!
– А с чего ты взял, что гнал я шибко?
– Как не знать, – усмехнулся Елпанов-старший, – как не знать, когда ты больше часу по двору Буяна-то водил да из избы теплое пойло ему приносил? Сразу видно – не шагом ехал. Не запалил ли Буянка-то? Надо будет еще стародубка[55] напарить, попоить его.
Отец стал допытываться, что случилось, и Петр рассказал о ночном нападении в Устиновом логу, о том, как он угнал от грабителей. Только скрыл он от отца, что заезжал на Куликовские хутора…
– Ради Христа, Петро, никуда не езди больше один! Они сейчас за тобой следить примутся, грабители-то… Эти ироды просто так не отступятся… Они, наверно, где-то недалеко живут. Какие тут деревнешки поблизости – только Харлова, так она в стороне. А Кулики, четыре дома всего, – как раз по дороге! Не с Куликов ли эти «добры молодцы»?! В другой раз уж вместе с тобой поеду…
– Да сиди ты дома, тятя, не много уж от тебя теперь толку-то, – добродушно усмехнулся Петр. А сам, незаметно для отца, погладил карман с кистенем.
…Не одну сотню верст наездил хлебными обозами по дорогам Зауралья переселенец Василий Елпанов. Уж шестой десяток пошел Василию Ивановичу. Всякое лихо повидал – и работу дни и ночи при распашке целины да обустройстве на новой земле, и недород, и засуху… Вроде и отдохнуть бы пора малость, но что-то снова и снова гнало его в дальнюю дорогу, сотни верст ехать, а часто и шагать за подводой.
Вот сват Илларион Коршунов – тот уж давно осел дома. Совершил паломничество по святым местам, и с тех пор – как подменили бывшего прасола и купца Коршунова. Он стал жертвовать большие деньги на церкви, истратил уйму на нищих и убогих.
Когда сын Платон намекал на никчемные траты, Коршунов или ругался, или, вздыхая, говорил ему:
– Деньги, деньги… А что деньги? Их бог дал, вот богово-то я и возвратить хочу! Пожил я для вас, постарался для семьи, порадел, а теперь и о душе порадеть надо, стар уж я… А торговать – это грех, обман! Не обманешь – денег не наживешь, а в убытке будешь… Много за жизнь я нагрешил, а остальное время для души хочу пожить…
– Тятя, коли ты сам не хочешь больше торговлей заниматься, так отдай мне деньги – я сам торговать стану. А без денег какая же торговля?
– Дай срок, придет время, и я отдам тебе и деньги все, и права. Полным хозяином станешь, а пока я еще живой! Память вот подводить стала, но живой я еще, понял ли ты меня? – отвечал старик и продолжал делать все по-своему.
В доме стало полно нищих, странников, каких-то монашек. Платон с отцом часто вздорили из-за денег. В деревне про них говорили разное, и некоторые отзывались о них нехорошо. Особенно язвила молва в адрес старшего Коршунова.
– Коршуновы-то начали беднеть, как Миронья умерла. Она, говорят, огненного змея выпарила, вот все и притворялась больной. А змея-то на деньги завитила. Вот деньги-то он им и таскал. Вон как распыхались. А известное дело, если тот человек умрет, который его выпарил, змей таскать деньги больше не будет.
– Вестимо, с нечистой силой была связана, вон как она мучилась перед смертью-то, целую неделю умереть не могла. Шибко страшно умирала.
– Много Илларион кровушки-то выпил у хрестьян… В третьем годе купил у меня телушку-летошницу, почитай – задарма взял: мне позарез надо было подать просроченную платить, а он уж тут как тут. Известное дело, и фамиль-то у него не зря такая – коршун, он и есть коршун! А теперь, говорят, спохватился – все поклоны Богу отбивает…
Когда человек богат, он имеет силу. Но стоит ему промахнуться где-то и обеднеть, на него обрушивается в десять раз больше всяких насмешек, сплетен и неприятностей.
Конец Иллариона Коршунова
В этот год Илларион Коршунов совсем сдал. За ним стали замечать неладное не только домочадцы и соседи, но и совсем посторонние люди. Да и как не заметишь, если старик учудил такое. Около Ильина дня он потихоньку ушел из дому, ушел босой, в одном исподнем белье. В таком виде он ходил по деревням, выдавал себя за прорицателя. Говорил он иногда довольно связно, мол, скоро наступит конец света и все должны покаяться во грехах; иногда же молол всякий вздор.
Даже те, кто хорошо его знал раньше, теперь ни за что не могли признать в этом сумасшедшем с бородой, в которой застряли солома и всякий лесной мусор, Иллариона Коршунова.
В сорока верстах от Кирги в одной из деревень был смертельно напуган молодой мужик. Возвращаясь ночью домой, проезжал на телеге мимо старого придорожного кладбища. Вдруг из-за кустов появилось привидение и направилось к нему. Мужик чуть не умер от страха, в исступлении хлестая свою полуживую клячу. Привидение еще долго гналось за ним, хватаясь за задок телеги. Приехав чуть живой домой, он занемог и тяжело заболел. Призвали лекаря, но толку не вышло, мужик через неделю умер.
Привидение стало на кладбище показываться и днем. Это был не кто иной, как Илларион Коршунов.
Старика Коршунова изловили и привезли домой. Скоро приступ безумия вроде бы прошел, но он по-прежнему и слышать не хотел о том, чтобы отдать сыну деньги. Говорил, что спрятал их в надежном месте, а где – позабыл напрочь. Платон его уговаривал по-всякому: и просил, и Христом богом молил. Даже пригрозил однажды, что свезет отца в сумасшедший дом, да никакого толку не добился. Видно, старик и впрямь забыл, где его деньги.
После Покрова на первый тонкий снег ударили морозы. У Иллариона опять начался приступ безумия. Теперь он был уже привязан в малухе на холстину. Настасья боялась туда заходить. Платон сам ухаживал за больным отцом. Старик Коршунов почти не спал, к ночи ему всегда было хуже. Он боялся темноты, ему мерещились черти, которых он будто бы ясно видел. Сидел на соломе в изорванной одежде, страшный и худой. Днем иногда у него были проблески сознания. Улучив такой момент, Платон начинал снова спрашивать о деньгах. При одном слове «деньги» на Иллариона опять нападал приступ болезни. Он начинал дико вращать глазами, взор его становился бессмысленным. Кричал: «Грешен я, грешен, нет мне прощения!»
Так прошло месяца два, его лечили как могли, но улучшения не наступало, а на выздоровление не было никакой надежды. Как-то в одну студеную ночь Платон пошел посмотреть в пригоне скотину и заметил, что ставень в окне малухи открыт. Платон кинулся к окну. Рама была выломана, отца в малухе и на дворе не было. Вернувшись к окну, Платон вгляделся и в лунном свете увидел на снегу следы босых ног… Они вели к заплоту, а от него – в поле.
Перепуганный Платон разбудил жену и соседей. Отвязали собаку и пустили ее по следу.
Иллариона Коршунова нашли верстах в двух от деревни, в покрытых куржаком[56] кустах ивняка. Старик сидел на снегу, замерзший насмерть. Труп представлял ужасное зрелище: оскаленный рот застыл, как будто покойный дико хохотал перед смертью, да так и умер; глаза вылезли из орбит и остекленели. Левая рука с растопыренными пальцами завязла в сугробе, видимо, он хотел опереться о землю и встать. Правой рукой ухватился за ветки, она так и застыла. Тело, скрюченное и обледеневшее, с трудом положили в сани и накрыли рогожей. Привезя домой, в избу тело заносить не стали: узнав о страшной смерти свекра, Настасья упала в обморок, и теперь возле нее хлопотала шептунья-знахарка.
Оттаяли замерзшее тело, обмыли и обрядили покойника в малухе.
Вскоре Настасье немного полегчало, но она не успокоилась и тогда, когда свекра уже похоронили. В ней еще живо было воспоминание, как тяжело умирала свекровь, а нынче еще ужаснее умер свекор. Настасья теперь была уверена, что над коршуновским родом висит какое-то проклятие, которое должно распространиться на Платона и их детей.
Припоминались разговоры старух, что у Коршуновых богатство от нечистого. Но в чем именно заключалась причина, она не знала. Прожив в коршуновской семье десять лет, она не заметила ничего особенного.
Мысль о покойнике не покидала Настасью ни днем, ни ночью. Однажды Настасья сеяла муку в кухне и вдруг явственно услышала в горнице шаги умершего свекра. За много лет она научилась различать эти тяжелые шаги, когда он еще был здоров и ходил по горнице, заложив одну руку в карман, а другую за полу кафтана, о чем-то думая, опустив голову, и половицы скрипели под его коваными сапогами. Так и теперь она ясно услышала эти шаги, по спине пошел могильный холод. Сито выскользнуло из рук, на лбу выступил холодный пот. Она оцепенела, боясь оглянуться, а по стене что-то шуршало, как будто кто-то шарил руками. Тяжелые шаги уже раздавались около печи, вот-вот зайдет в кухню. Во рту стало сухо, язык не повиновался, чтобы прошептать молитвы. Вдруг скрипнула калитка и во двор зашла крестная Платона, Евлампея, а вскоре пришел и сам Платон. В горнице все осмотрели, но, кроме кошки, никого не было…
После того как справили сороковины, Настасья с ребятами стала проситься у Платона в Прядеину – хоть недельку погостить, повидать отца и брата.
После поминок денег у Платона почти не осталось, но, подумав немного, муж согласился: он нанялся отвезти на двух лошадях мясо в Тагил и заодно увидеть старых знакомых Коршунова, чтобы попросить в долг денег.
Когда собирались в дорогу, Платон сказал Настасье:
– Помнишь, мать, как мы договаривались, что ты попросишь взаймы у отца? Так попроси, не стесняйся своих-то… Мне бы хоть рублей сто для начала, в пай вступить, а если хорошо пойдет торговля, я бы эти деньги скоро выручил да и вернул долг.
В родительском доме Настасью встретили радушно, но денег взаймы не дали. Отец, чуть не плача, сказал, как бы оправдываясь:
– Настасьюшка, ты ведь нам родная дочь, всё мы видим, всё с матерью понимаем, жалеем вас. А чем мы можем помочь? У нас ведь ни копейки своих денег нет. Петр все забрал себе. Даже не знаем, когда и как это получилось. Теперь тут все его, нашего ничего нет…
Пелагея заплакала:
– Сейчас мы в его воле, хочет – держит нас из милости, а хочет – выгонит. Тогда нам только с сумой по миру идти.
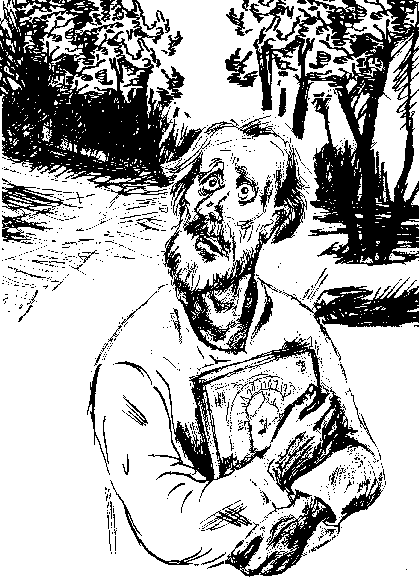
Переломив гордость, Настасья все же попросила денег у Петра. Тот очень удивился и денег ей не дал, ссылаясь на недород в этом году.
– Эх вы! Упустили такой капитал! Разве можно доверять что-то старикам, разве что ограду подметать да навоз убирать, дак и то неладно сделают. И ты тоже хороша! Если уж твой муж такой ротозей и недотепа, надо было тебе самой вникать в дело, следить за стариком, узнать, куда он деньги спрятал. Порадеть бы надо для дома-то. А то дожились, что с одной коровой остались да двумя худыми клячами. Вам теперь не то что сотни, а и тысячи не хватит, чтобы поднять вконец разваленное хозяйство.
Настасья была уж не рада, что заговорила с Петром о деньгах. С того дня гостить ей в родительском доме больше не хотелось. Ей стало казаться, будто за столом Петр злобно посматривает на ее детей, что они много едят. Шалят, играют, шумят, и от них беспорядок. И когда Петр был дома, не только дети, но и взрослые как-то невольно притихали. Точно он был тут всему властелин и все ему беспрекословно подчинялись.
Как-то во время ужина Настасья сказала просто так, не обращаясь ни к кому:
– Надо нам домой ехать, загостились мы у вас, надоели своим криком да шумом. Платон что-то долго за нами не едет. Отвезли бы вы нас домой!
– Ну что вы, неужто надоели? – помолчав, сказал Петр. – Приедет же все равно за вами Платон, а то подумает еще, что гостей не надо стало. Да и некогда мне вас отвозить. Два дня терять надо, дорогу вон как перемело, на заимку кое-как езжу.
Через несколько дней Платон приехал за семьей. Привез гостинцы, пусть дешевые, но всем. Как обрадовались дети и сама Настасья! С радостным сердцем поехала она домой. Теперь уже она поняла, что ее дом в Кирге. Дом мужа, пусть бедный, старый и мрачный, но его нужно любить, обживать, забыть все страхи и дурное прошлое. Пусть они небогаты, не в богатстве дело. Будут заниматься хозяйством, растить детей и довольствоваться тем, что есть. Вот бы еще стариков взять к себе, а то Петро шибко тятю притесняет. Боже мой, как брат изменился за последние годы – и не узнать. Большие деньги, видно, не всем на пользу. Правду говорят, что если хочешь узнать характер человека, дай ему деньги и власть.
Платон тоже не унывал: «Я так и знал, что так будет. Бог с ними, пусть живут как знают, и мы как-нибудь проживем. На готовое надеяться нечего, отец мой тоже все из ничего начинал».
После отъезда Настасьи в елпановском доме опять настала тишина и порядок. Только у родителей на сердце было тяжело, ведь ничем не смогли помочь дочери в трудное время. Платона они уважали за трезвый ум, справедливость и честность и не сомневались, что он отдаст долг. И теперь они были очень недовольны Петром.
Однажды Пелагея заболела и стала упрекать сына:
– На коленках придется ползать да все самой делать, видно, уж умру, не дождавшись замены. Тридцать лет, а все не женишься.
– Женюсь, мама, не беспокойся!
Прошло не так много времени, как Петр заявил отцу о помолвке:
– Тятя, я в нынешний зимний мясоед буду жениться.
– Кто же невеста? – удивился отец.
– Из Ирбитской слободы, дочь купца Овсянникова, звать Елена, по батюшке Александровна, двадцати семи лет, вдова, была замужем за акцизным, он ей оставил кой-какое состояние.
– Ты что это выдумал? – опешил Василий. – Не остарел еще, да за тебя любая девка пойдет. Тебе в Петров день еще только тридцать будет. Зачем тебе вдова, да, поди, еще с кучей робят? Вот что! Ты не дури, парень!
– Детей нет. Отец, она богата, а это все для меня. Ведь Настя не пошла же за батрака Алешку, хоть и любила его, а вышла за богатого Коршунова. Хотя теперь это уже не имеет значения. Коршунов стал из-за своей глупости беднее Алешки.
Для Василия этот разговор с Петром был, как удар обухом по голове. Оказывается, живя в одной семье, под одной крышей, он до сего времени не знал своих детей. Воспитывая в них трудолюбие и страсть к наживе, попутно воспитал еще и жадность. И он больше не сказал ни слова против.
– Жить тебе, ты и думай, уж не семнадцать лет, все с ума уж должен делать. Если женишься на человеке, с человеком будешь жить, а деньги наживешь; если женишься на деньгах, с деньгами будешь жить. Но деньги – дело ненадежное. Уйдут – один будешь жить. Будешь каяться, да поздно будет.
– Что ты, тятя? Недоволен чем? Она ведь не старуха, – искренне удивился Петр, – любую девку тут возьми, какое приданое получишь? Одна голь перекатная. Возьми такую, да и торгуйся с ее отцом о какой-нибудь паршивой телке. Да потом век еще будут говорить – вот какое приданое дали. А Елена – вдова, будь она девкой, я тоже бы к Овсянникову не стал свататься, поскольку он не богаче меня будет, только одно звание, что купец третьей гильдии! Да и семья-то у него вон какая – четыре взрослых дочери да сын. Всем разделить надо. Что бы он мне мог дать в приданое за своей дочерью, шиш! А Елена, она ни от кого не зависит: что от мужа осталось – всему полная хозяйка. Все имущество будет принадлежать мне.
– К ней, что ли, думаешь ехать жить-то? – уже миролюбиво спросил отец.
– Свою деревню на Ирбитскую слободу никогда не променяю. У меня тут заимка дает хороший доход. Вот еще бы арестантов побольше сбегало.
– Ну, на арестантов ты шибко не надейся. Пронюхают в волости!
– Ну и что, пусть нюхают! Приедет урядник – взятку дать можно.
– А если он не возьмет взятку-то?
– Всегда брал, а тут не возьмет? Да с руками оторвет, уж этих подлецов я насквозь вижу: что становой, что урядник – так и глядят, где бы схапать… Нет! Отец, я женюсь на этой вдове. У меня будут родственные связи среди купечества, это раз. Мне надо как можно больше денег, наличного капиталу, чтобы увеличить оборот в торговле, это два. А там, глядишь, и сам вылезу в купечество. Я уж давно смекнул: на одной земле денег много не наживешь.
Богатая невеста
Отец Елены, Александр Нилыч Овсянников, был грамотный и даже образованный по тому времени. Служил управляющим в имении графа в Тульской губернии. Овсянников со своими обязанностями справлялся, и старый граф был им доволен. Но граф умер, и имение перешло к его непутевому сыну – офицеру в отставке. Сын недолго командовал имением – залез в долги, и имение ушло с молотка. Новый хозяин поставил своего управляющего, а старого освободил от должности.
Буквально на следующий год вышел царский указ о заселении свободных земель Урала и Сибири. Овсянников, воспользовавшись этим, переселился с женой на Урал. Вместе с ними приехали его отец и неженатый брат.
Решили попытать счастья, поработав вольными старателями недалеко от Екатеринбурга. Им повезло – сразу напали на богатую золотоносную жилу. Дело быстро пошло в гору. Построили дом, вскоре родилась Елена, но когда дочери пошел седьмой год, жена тяжело заболела и тихо угасла, как свеча. Пришлось Овсянникову жениться второй раз. Жену он взял из семьи местных переселенцев, на десять лет моложе себя. У девицы был тяжелый характер, она сразу невзлюбила падчерицу и держала ее в строгости. Один за другим пошли дети: четыре дочери и один сын. С годами вторая жена совсем подчинила Александра Ниловича; своенравная и властная, она распоряжалась и командовала всем хозяйством и держала своего мужа под каблуком.
Когда Елене исполнилось девятнадцать лет, посватался к ним богатый бездетный вдовец – Евсей Макарович Шапошников. Он был старше ее на целых сорок пять лет. Елена никак не могла поверить, что это всерьез. «Ведь он намного старше моего отца, – думала Елена, – что ему взбрело в голову меня сватать? Неужели батюшка отдаст меня за него? Нет, ни за что не пойду за старика, лысого да противного, лучше вечно жить в девках». В торговые дела отца она никогда не вникала и не знала, что вся торговля у отца зависит от этого человека.
Отец с мачехой долго о чем-то спорили в своей комнате, ее туда не пускали, но она все же поняла, что речь идет о ней и о сватовстве Шапошникова. Наконец отец со слезами на глазах дрогнувшим голосом сказал Елене: «Дочка, мы тебя просватали за Шапошникова, скоро свадьба». Елена горько заплакала, а отец стоял виновато рядом с растерянным видом.
Свадьба была скромной и незаметной. Для венчания был выбран будний день после обедни, когда из церкви ушел весь народ. О помолвке и о свадьбе никому не говорили и не объявляли, знал об этом только очень узкий круг знакомых и родные невесты. Все расходы на свадьбу и на наряды невесте Шапошников взял на себя.
После венчания сразу поехали в дом Шапошникова, который красовался на высоком берегу Ирбитки. Дом был деревянный, двухэтажный, но небольшой, на первом этаже располагалась контора, там занимались делами акцизного его помощник и писарь. На втором этаже были жилые комнаты: кухня и столовая, передняя, гостиная и спальня.
После смерти супруги Шапошников целый год жил один. Прислуживала ему деревенская баба лет сорока, звали ее Арина. Она прибирала в комнатах и готовила хозяину обед, муж ее, Степан, был конюхом и дворником и делал все работы по хозяйству. Прислуга жила во дворе в деревянном флигеле.
Евсей Макарович находился часто в разъездах по делам службы, но Елена привыкла к этому. Когда был он дома – хорошо, уезжал – еще лучше, она никогда ни о чем не думала и не скучала. У нее был спокойный, уравновешенный характер. Каждое дело она выполняла с большой охотой и старанием. Работы по хозяйству было много, и это спасало ее от скуки и от всяких дурных мыслей. Муж, видя трудолюбие своей молодой жены, всячески поощрял ее, всегда привозил ей красивые вещи, но одевалась она хорошо только тогда, когда они шли к кому-нибудь в гости или принимали гостей у себя.
Часто, когда мужа не было дома, к Елене приходила мачеха с детьми. Мачеха стала укорять падчерицу, мол, она должна быть ей всю жизнь благодарна за то, что она ее, Еленку, воспитала и нашла ей богатого мужа.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Голбе́ц – конструкция при печи, приступок для всхода на печь и полати и спуска в подклет.
2
Заплот – забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен.
3
Елань – обширная прогалина; поляна в лесу; луговая или полевая равнина; лесная вырубка, используемая для пашни или покоса.
4
Со́гра – заболоченная кочковатая местность, поросшая кустарником или мелким лесом.
5
Бродни – обувь сибиряков с высокими голенищами, подвязываемая над щиколотками и под коленями.
6
Полаты – пола́ти – лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью.
7
Занавица – шторка, занавеска.
8
Настольник – русское областное название расхожей скатерти из грубой, дешевой материи, застилаемой ежедневно. Скатертью же в районах, где употребляют термин «настольник» (натрапезник), называют только тканую белую скатерть, застилаемую в праздники.
9
Малуха – задняя, малая изба, скотная, шерстобитная, или просто зимница.
10
Трунда – торфянистая почва, торф.
11
Куде́ль – очищенное от костры волокно льна, конопли, приготовленное для прядения.
12
Кострина (костра́, кострика, костеря, кострица) – одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, конопли и др.).
13
Дратва – крученая просмоленная или навощенная нитка для шитья обуви, кожевенных изделий.
14
Обутки – обувь, лапти с оборками.
15
Робить – работать.
16
Кумышка – хмельной напиток домашнего приготовления, самогонка.
17
Помочь – взаимопомощь, работа миром для кого-нибудь; за нее обильно угощали, но не платили.
18
Щёлок – отвар золы, настой кипятка на золе, поташная, зольная вытяжка.
19
Помылье – мыло, для изготовления которого использовали животный жир.
20
Кошёвка – рабочие сани, розвальни.
21
Овин – хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой.
22
Кичиги – три звезды над горизонтом, стоящие в ряд. Говорили: «Спать легли, когда уж Кичиги взошли». Или: «Встали – Кичиги еще не ушли».
23
Изгребь – пакля, очески, грубые льняные волокна.
24
Неминя – нужда, необходимость.
25
Чересседельник – часть упряжи, конской сбруи в виде ремня, протянутого от одной оглобли к другой через седёлку.
26
В строк – на срок, на определенное время, на период страды.
27
Гусевая – передняя лошадь при запряжке «гусем», обычно самая выносливая.
28
В пострадки – наниматься на сторону, в работницы.
29
Поветря – поветрие, быстро распространяющаяся эпидемия.
30
Сибирка – сибирская язва, особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.
31
Пропастина – падаль, мертвечина.