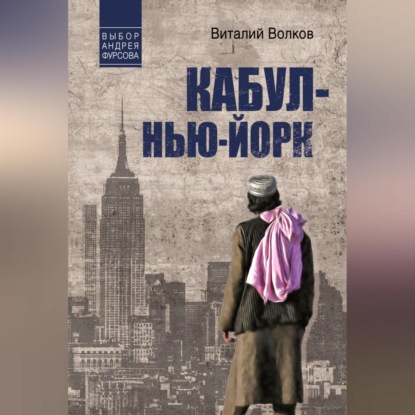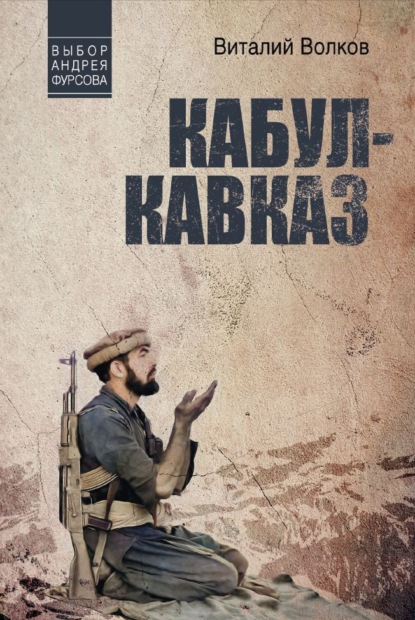Полная версия
Кабул – Нью-Йорк
– Как будто завтра жизнь закончится, а не начнется, – на днях уже сказал он адъютанту Соколяку. Тот усмехнулся:
– Смерть начинается там, где заканчивается жизнь.
Год назад Соколяк едва успел выбить из рук обкуренного десантника автомат, когда тот, не моргнув белесым выпуклым глазом, запустил очередь в штабных генералов и полковников. В тех глазах не было жизни.
Однако войско, как море, раскачивалось от утра к вечеру, от прилива к отливу, но не выходило из берегов. Ютов уже надеялся, что еще день – и оно вытечет рекой сквозь темные ущелья, и афганцы будут смотреть этой мутной февральской воде вслед с утесистых берегов. Может случиться, что разведчики напорются на минное поле, может быть, пара «стариков» поднимут бузу, но в целом вывод его дивизии пройдет под знаком мирной звезды. Так же считали и штабные, те, кто еще оставался в «сознанке». Так бы и было…
Но днем пришел черный приказ от Главпура. Лучше бы его вообще не было, этого Главпура. Лучше бы Горбачев с него начал свою «Женеву». Главное политуправление Советской армии приказывало авиации нанести ракетно-бомбовые удары по позициям моджахедов на пути следования уходящих колонн. Во избежание нападения с флангов.
Ютов обхватил голову руками. Эти сволочи даже закончить войну не могут по-человечески. Руслан Русланович сочно стукнул кулаком по столу, и тяжелая, из кости, индийская пепельница подскочила в испуге.
– Соколяк! – крикнул он, и адъютант черным вопросительным знаком вырос на пороге.
– Политруки решили отутюжить ковром на прощание. Суки. – Ютов не стеснялся в выражениях перед офицером, ставшим его тенью.
– Кто-то «там» орден захотел. Верно. Потом будет труднее колодку удлинять.
Ютов еще раз приложил стол, но на сей раз ладонью, бережнее.
– Масуд не простит обмана. Иди к Масуду. Пусть узнает.
У Ютова была отлаженная схема обмена информацией с командирами Масуда через посредников, но сейчас идти этим путем не было времени. Очень не хотелось рисковать Соколяком, но никому другому не мог он доверить поручение, за которое его самого с легкостью отдали бы под трибунал «те». Если бы прознали.
Соколяк прищурил глаза. В заостренном русском лице проявилось монгольское. Поручение его явно не привлекало.
– Лев не простит бомбежки. Но будет поздно. Отольется Наджибу. Но для нас война закончится, – медленно, хирургически расчленяя слова на слоги, выговорил он.
Ютов поднялся из-за стола, подошел вплотную к Соколяку. Со стороны могло показаться, что одна тень накрыла другую – генерал был выше ростом и пошире в плечах сухого, жилистого, подсушенного солнцем адъютанта. Многие удивлялись, зачем Ютову такой, тем более не свой, не кавказец.
– Война не закончится для нас с тобой ни-ког-да! Масуд не простит обмана. Ты, Соколяк, – так же дробя слова молотом языка, произнес Руслан Ютов, – поторопись и донеси до него одно: самолеты поутру – это кара свыше. И ему, и нам. Иммануил Кант говорил: из кривого дерева, из которого стругается человек, нечто прямое вряд ли выстругать. Он должен понять. Он не должен ударить нам в спину.
Соколяк ничего не ответил. Ясно было, что Ютов принял твердое решение. Только желваки, заигравшие на скулах адъютанта, сообщили генералу о его мнении – Панджшерский Лев забьет им штырь в самую спину по позвоночник. Но, прежде чем это общее случится, его, Юрия Соколяка, с большой вероятностью посадят голым затылком под тяжелый бомбовый град асов грозного авиатора Руцких. Чтобы мог углубить свои мысли о каре небесной… Однако Соколяк умел подчинять сомнения и страхи – не подчиняться, как собака (хотя кто знает, что собака именно подчиняется, а не делает осознанный выбор ради одной лишь ей ведомой цели?) – присоединять свои личные страхи и сомнения к более общим страхам и сомнениям. Благодаря этой методе бесцельная жизнь обретала смысл и даже объем и, как ни странно, упрощалась. И это присоединение Соколяк осуществлял в форме персональной, через Ютова, которому, так считал адъютант, кто-то при рождении наверху выдал пропуск в мир того самого общего.
Когда Соколяк отправлялся в кишлак, где жил афганец, служивший связным между Ютовым и душманами Масуда, он еще раз воскресил в памяти весь разговор с Русланом Руслановичем и удивился тому, что, пожалуй, последние слова генерала примирили его с действительностью, перевесив все лежащие на правой чаше весов гирьки сомнений. «Для нас война не закончится ни-ког-да»…
* * *Дивизия Ютова уползла, выдавилась сомкнувшими каменные брови горными массами. Солдаты уходили, с тревогой смотря на горы, на дымящиеся после последнего бомбового удара кишлаки. За каменными грядами, отделяющими от этих дымов колонны, вырастали силуэты людей. На груди у этих людей видны были автоматы, но руки их были заняты иным – они вытаскивали на обозрение ютовских солдат трупы. В бинокль особенно хорошо различимы были фигуры стариков, женщин, детей, загубленных по приказу Главпура. Воины Масуда вставали над трупами и молча провожали взглядами своих врагов. Ютов оказался прав: Соколяк успел донести послание и в спину его войску не звучали выстрелы. Но в зрачки глаз тех офицеров, кто знал о приказе «оттуда» и еще не успел упиться или увоеваться до бессознания совести, острой щепкой вошла под мозолистую кожу души боль от пронзительного солнца, сияющего в спины черных силуэтов на синих горах.
Что такое любовь. Маша и Балашов. Продолжение
9–11 сентября 2001-го. Москва
Как это у них часто бывало, после разговоров тяжелых, прыгающих от кочки к кочке в поисках надежной тверди слов, у которых они, заложниками, как малые дети у родителей, сидели на закорках – после таких разговоров, если они все-таки не обращались в ссору, ночь случалась радостная и бурная, разрешающая напряжение, как гроза. С утром, все-таки завершающимся ужином. Несмотря на скорбь по Масуду, именно такая ночь ожидала их после долгого разговора о любви и хребтах Гиндукуша. Впрочем, говорят же опытные люди, что во времена больших бед, катастроф, побоищ плотская любовь с невиданной силой торжествует на руинах и на могилах ушедших.
Нельзя сказать, что Балашову вовсе не было неловко перед самим собой за угождение слабости личной, несмотря на понимание беды общественной. С другой стороны, имелось и утешение. Глядя на свернувшуюся на его груди ящерку, он думал, что слабость еще не означает слабость перед наслаждением. За теплым, порой горячим наслаждением, кажущимся высшей формой соединения духа и плоти в одной точке, в дробинке времени, наступает опустошающая дурнота. Разочарование в любви. В такой любви. Даже в такой любви. Некий прибор внутри все же не отключается, продолжает сравнивать с идеальным…
Логинов своим звонком попал точно в эту дробинку времени.
– Что им надо, – пробормотала Маша и, не открывая глаз, постаралась скинуть с тумбочки телефонную трубку, но вместо этого уронила бутылку воды и оставшийся недоеденным бутерброд. Балашов одной ладонью прикрыл ей рот, а другой – защитил телефон.
– Ты спишь, Москва? – прозвучал в трубке скрипучий голос Логинова.
– Поздно лег, – ответил Игорь, пытаясь угадать, который же теперь час.
Он понимал, что допустил оплошность и теперь Володя примется подшучивать над «молодоженом» на радость тех служб, которые, вне всякого сомнения, интересуются содержанием сигналов, переносимых международной линией связи между Москвой и Кельном. Тем паче, что звонил Логинов наверняка из офиса радиостанции. Но вместо этого товарищ бросил непривычно грубо:
– Протри глаза и включи телевизор. Будь любезен. Я тебе перезвоню через полчаса. И Маше скажи, чтобы трубку не отключала. Сегодня ты моему работодателю нужен как эксперт. По мегатерроризму.
На экране проснувшегося телевизора самолетик рушил американскую мечту.
Странно, но и сразу после увиденного и после повторного, уже долгого разговора с Логиновым Балашова посетило и никак не покидало ощущение радостной торжественности, влившееся в емкость плоти, опустошенную разочарованной любовью.
– Двадцать первый век начался, – попытался объяснить странное, лихорадочное состояние Маше Балашов, – и я угадал его черты. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки…»
– Столько народу погибло. Крушение Вавилонской башни…
«И своею кровью склеит двух столетий позвонки».
– Надо у знатоков выяснить, может быть, в Торе именно про этот Вавилон сказано?
– Все только начинается. Тайное станет явным. Гной выплывает наружу.
– Но люди! Кто это сделал? Кто мог придумать такое?
– Кто-то. Сложное окажется простым, если его разложить на слагаемые. Кто-то, у кого много времени. Кто-то, кто думает о вечном. Кто-то, кто отстранен от политики.
– Ты думаешь, это Назари? И убийство Масуда?
– Не важно, кто. Это больше, чем Кто. КТО – не мог разрушить Вавилонскую башню. Двадцатый век закончен.
– И что будет? – Маша притихла. Дерзкая, московская женщина в ней затаилась, как птичка в предчувствии грозы, и осталась только та Маша, которая ждала важного от себя, от Игоря, от неба, ждала осуществления судьбы. В ее высоком значении. Пожалуй, вот такое существо, гнездившееся на веточке раскидистого, хоть и низкорослого деревца под названием Маша, он больше всего любил. Любил, как будто существование этой птички утверждало наличие лучшего и в нем самом. Перед такой Машей не надо хитрить и как-то «выглядеть», поскольку по сути общение с ней – это общение с настоящим «собой». Таким «собой», который хотя бы допущен видеть масштаб мироздания и единственную связь большого и малого в нем. А потому Игорь ответил честно:
– Не знаю. Я не готов. И мне уже не так жаль Масуда. И мне страшно, торжественно и хорошо, как на свадьбе. Я взрослею?
– Тебе и при смерти, наверное, будет так же хорошо. Не верю тебе. Когда страшно, не может быть хорошо! Почему так устроено, что жить должно быть страшно? – эти слова вернули писателя на землю.
* * *Кеглер позвонил Балашову не поздно, часов в семь-восемь вечера. Был настойчив. Ссылался на Логинова. Упоминал Масуда, на недавнюю поездку. Старался сказать комплимент, только вышло неловко. Но Кеглер был Кеглером, так что еще не стемнело, как Паша уже сидел у Игоря на кухне. После недолгих колебаний он купил эксперту «Перцовой». Одну вручил сразу, а вторую держал в резерве – на случай, если тюфяк все же окажется заводным. И хорошо сделал, кто ж знал, что у эксперта еще и девица пьющая… Симпотная девица…
Кеглер, направляясь к Балашову, точно не представлял себе, чего же он хочет от названного Логиновым эксперта. Он был движим досадой на немцев из ZDF, которые отнеслись к его пленкам даже не безразлично, а высокомерно и пренебрежительно, и бодрой догадкой, что именно Балашов придаст его судьбе нужный толчок вперед. Или вверх. К удаче.
Но чем меньше в бутылке оставалось жидкости, похожей на некрепкий чай, тем яснее становился Паше Кеглеру истинный великий смысл его прихода. Тут удача, тут метод! Эксперт вкладывает ему в руки рычаг, которым он взломает замок, висящий на воротах, ведущих к известности. Ну Логинов, ну спасибо тебе!
– Ты, Балашов, не сиди, не молчи, ты же на радио, на телевидении был, скажи, что знаешь. Кто? Потому что Масуда. Наступление по всему фронту. Возьми меня с собой, я про арабов в Ходже расскажу. Плёнки покажем – полный эксклюзив, – частил гость, по-хозяйски устроившийся у Балашова.
Балашову не нравилось, что пришелец скоро перешёл на ты, и ещё больше не нравилось, что наглец то и дело подмигивает Маше. С ним примиряло лишь то, что напиток он подобрал грамотно, да и в Афгане отметился. Беглостью речи крепыш напомнил Игорю Миронова. Видимо, тонкие сферы жизни организуют пространство вокруг человека так, что ему на его пути то и дело попадается подобное. Будто случайно.
– Эксперт Балашов очень скромен, – объясняла тем временем Маша, которую от рваного ритма сна да от перцовки повело, – но не от скромности скромен, а от гордости. И ещё от страха. Боится словом повредить мир. Как глаз ногтем.
– Почему? – не осознал дефиниции Кеглер.
– Это вы его спросите, почему. Писатель великий потому что. Угадал излом века. Теперь испугался.
Балашов раскраснелся.
– Я книгу писал. Всё на фактах. И все про Нью-Йорк. Только в Европе. В Германии. Из Афганистана. Но бросил пока. Всё сложно с этим. В чём права она, – Игорь кивнул на Машу, – нельзя большим пальцем в часовой механизм.
Игорь хотел развить эту мысль, а заодно и самому разобраться в том, отчего ощутил после получения грозных известий неведомую доселе значительность. Но не рассчитал, что собеседник его – истинный журналюга, недалёкий да цепкий. Террористы Назари в Германии – вот, оказывается, чего не хватало в супе. Услышав о террористах, Кеглер утратил интерес даже к Маше. Игорь уловил это и спохватился – добрыми бы словами обласкал его Миронов, кабы прознал, что Игорь болтает о Ютове и его бойцах с первым встречным.
Но поздно. Изменение настроения хозяина только подтвердило догадку гостя – террористы есть и эксперт знает о них гораздо больше, чем говорит. Он ощущал себя в отличной форме и решил зайти иначе. Цель была близка.
– А я не верю. Логинов говорил что-то про Чечню, про Афган, а я не верю. Я там, в Афгане, людей видел. Им до Чечни дела – как до мяса свиньи. И Чечня, и Москва, и какой-нибудь Франкфурт-на-Майне им без надобности. Выдумки наших ястребов. И Логинов, твой европеец, хм, слухами «Голоса Европы» полнит. Ну, ещё по одной? А я в Чечне-то был. Я эту тему буду поднимать. Ага.
– А я точно знаю. Через Кавказ идут. Там легализацию проходят. На не туфтовых паспортах. А здесь уже отмываются окончательно. Точно знаю, – обиделся Балашов.
– ОБС. Одна бабушка сказала, – Кеглер уже знал, как взять интеллигента «тепленьким».
– Говорю тебе – точно. Точно, как слово Масуда. Оттуда получено, а здесь проверено. Кровью проверено.
– Кро-о-вью?
– Кровью. И дальше не лезь. Дальше не наши дела.
– Раз не хочешь – молчи. А у меня плёнки на руках. Они молчать не могут. Логинов уже даёт интервью. А ведь мы вместе были. Я не рыжий. У меня тоже чего рассказать-то есть. На тебя ссылаться не буду. Надо только успеть, пока лавина с горы не покатила.
Кеглер вышел от эксперта хмельной и счастливый. Жизнь собралась в тёплое сладкое целое, как чай, вылитый в блюдечко. Наклонись и пей, пока не остыл.
Он ещё долго не мог заснуть, вспоминал, как разволновался Балашов, как просил язык держать за зубами о пресловутых террористах Назари в Германии. Врёт, наверное, хитрец, цену набивает… Откуда, ну откуда ему, червю, знать…
Но для Паши Кеглера было не столь важно, врал ли Балашов, не врал ли… Он пообещал тому молчать, хотя точно знал, что расскажет.
– Дурной он, зачем Логинов его послал, что ему с ним? Порастерял Володя аристократизм на чужбине, – посетовала после ухода Кеглера Маша.
– Дурной.
– А ты что разболтался? То сидишь, как крот в норе, а тут на разговор потянуло.
– Предупредить хотел. А то с дурной головой полез бы. В тельняшке. Кеглер. Фамилия какая-то…
– Кеглер этот фартовый, ты мне поверь, скоро главным экспертом будет. А ты так и просидишь.
Балашов оглядел Машу, ненадолго задержал взгляд на её заострённом упрямом затылочке и устремил его дальше. Как будто тут Маши-птички уже не было, но его глаз еще способен был ее разглядеть.
– Я ещё о любви понял. Ее надо классифицировать в таблицу Менделеева. Любовь – это и психофизическая близость. Не так, как все думают, а как электрон с ядром в атоме.
– Ты это к чему, Балашов?
– Только близость к ядру у электронов разная бывает. Орбиты. Каждая орбита – свой квадрат в химической таблице элементов. Особое вещество любви. А мы их все в одну кучу, любовь и любовь.
– А я кто – электрон или ядро? Интересная у тебя теория.
– Не знаю. Может быть, для меня ты электрон, для тебя – я. Дуальность внутренней реальности. А может быть, мы – оба электроны, вокруг одного ядра вращаемся, а оно и есть «то самое».
– Что «то самое»?
– Не знаю пока что. То, что в материи отражает факт наличия нас с тобой как одного идеального целого.
– А с твоей бывшей, с Галей, у тебя другое – это самое идеальное целое?
– В том-то и дело. Может быть, две, три, сто любовей у меня. Весь вопрос в орбитах.
В Машиных глазах сверкнуло недоброе.
– Ладно. Про Галю ясно. А с Логиновым или с твоим Мироновым тоже? Как там у мужиков с мужиками?
Балашов задумался. Потом кивнул утвердительно:
– У каждого с каждым. С каждым. Только тут заряды могут быть разные. Химия иная. Оттого и называется «дружба».
– Нет, Игорёк, что-то в твоей теории не то, – скверно ухмыльнулась Маша, – а как, Балашов, в твоей виртуальной таблице может быть элемент твоей идеальной близости ну, к примеру, со Сталиным?
– Он умер. Тебе не сообщили?
– Хорошо. С Арафатом. С Каддафи. Или, чтобы тебе ближе стало, с террористами Назари?
Игорь отвлёкся от разглядывания обоев и странно посмотрел на подругу.
– Ты гений, хоть и злишься! А почему бы не с самим Назари? Этого мне не хватало! Вот это уже книга. Об одной очень сложной близости. О смысле новой войны. Ты гений, Маша. Не двадцатый век завершился, а двадцать первый век начался!
Кеглер на ТВ
13–14 сентября 2001-го. Москва
Попасть на экран оказалось куда проще, чем это себе представлял Паша Кеглер. Приятель с РТР, только услышав про террористов, не стал даже вдаваться в подробности, что за плёнку привёз Паша и откуда.
– Так, понял, дальше не надо. Тема сейчас покатит, как смазанная. Через минут двадцать перезвони, я стрелки переведу. Только давай сразу замажем: НТВ если купит, я в полудоле. На весь прокат.
Сердце тикало часто-часто, но Паша подсобрался. Нельзя было продешевить.
– Годится. Только плёнки после интервью получишь. В прайм-тайм. Иначе – двадцать пять процентов.
– Ну ты волчара, – хмыкнул приятель. Прозвучало это уважительно. Кеглер аж приподнялся на цыпочках.
– А то как. У меня крутая клюза на руках. А на календаре что у нас? Второй день нью-йоркской трагедии…
НТВ дало Паше не только прайм-тайм, но и отличного ведущего. Когда у новоиспечённого эксперта Кеглера скверно выходило с тем или иным ответом, он закашливался, тянулся за стаканом с водой, а ведущий уже заполнял паузу мягкой подкладкой, вполне заменяющей собой Пашину речь.
– И всё-таки, Павел, и всё-таки, кто смог осуществить такое?
– Э-э… Я полагаю…
– Вы ведь видите связь таких разных событий, как воздушная атака на небоскрёбы в Нью-Йорке и покушение на лидера афганских моджахедов по другую сторону океана. Не так ли?
– Кхе. Возможна прямая связь. Звенья одной цепи.
– Да. Мне, сидя в Москве, трудно перекинуть мост между близкими по времени, но столь далёкими по расстоянию и, главное, по последствиям событиями. А вот наш сегодняшний гость Павел Кеглер, только что вернувшийся из Афганистана, эту связь установил. Так вопрос к эксперту: кто и зачем? И главное: что будет дальше? Вы объясните нам это? Вы развеете наши страхи?
– Кхе, хороший вопрос. Вопросы. Вопросищи. Если бы вы спросили, мог ли это сделать Зия Хан Назари, я бы ответил, что мог. У него есть масштаб, у этого мегатеррориста, как его точно охарактеризовал один мой приятель, тоже специалист.
– А если я спрошу, мог ли это сделать Саддам? Хомейни? Усама? Или Каддафи? Или другое государство? Куба?
– Тут я ответил бы «нет», – Кеглер вошёл в роль. Артистических способностей он был не лишён и ощущал себя перед камерой то Логиновым, то Балашовым, – государство, спецслужбы – это бюрократия, решения проходят множество инстанций. Везде подписи. Ответственность, страхи. Государство на такое нестандартное действие не способно. Нет, это умная и независимая структура. Такая есть у Назари. Он фигура такая. С размахом. Ещё в Афганистане при моджахедах проявился.
– С размахом. Да, уважаемые телезрители, кому-то это может показаться циничным. Но слово «размах», употреблённое господином Кеглером, как говорится, из трагической песни происходящих на наших глазах событий не выкинешь. Но, Павел, если вы считаете, что Пентагон и Лев Панджшера – звенья одной цепи, – то тогда ещё к вам вопрос: объясните зрителям, зачем исламскому мегатеррористу понадобилось убирать своего влиятельного единоверца в Афганистане. Ответите?
– Тот, кто сегодня ответит на этот вопрос, может не прожить долго, – вспомнил Паша кругленькую фразу, произнесённую Логиновым. Он подмигнул ведущему, – тут большая игра. Назари – союзник талибов, Масуд – их главный противник. Но не в этом… Кхе… – Кеглер на секунду заколебался, и всё-таки решился. В ушах легонько зазвенело, как на высоте.
– У меня точные, точные данные. Назари давно засылает террористов на Запад. Вся Европа в сети. Недавно ушла группа. Из Афганистана. Единственный, кто мешает терротранзиту – Масуд. Его разведка. Он – буфер. Они многое знают.
– Вы хотите сказать, что Нью-Йорк – не последнее? – ведущий подыгрывал Кеглеру. Он был очень доволен разговорившимся гостем.
– Не последнее. По плану. Такое готовится долго. А в Европу террористы были заброшены совсем недавно. Полгода не прошло. Это детонатор будущего.
– Куда в Европу?
– В Германию, – брякнул Паша Кеглер скорее наобум, вспомнив про то, как его приняли в бюро ZDF…
Несколько дней после интервью на НТВ Паши Кеглера не было. Не было такого человека, потому что человеку, кроме скелета, сердца, ливера, мозга, в конце концов, ещё нужно время, в котором он может собрать свою массу в одном месте. В отличие от физических тел, способных восполнять массу скоростью, отказываться от постоянства места во времени, душа, определяющая имя человека, не может жертвовать своей массой – её масса или ноль или бесконечность – она либо везде, либо нигде. Но момент жизни для неё – это момент отождествления с ней тела. И для такого отождествления телу необходим хотя бы частичный покой. Вот чего Кеглер не мог предоставить своей душе в подхвативших и охвативших его обстоятельствах – так это времени на отождествление. Его мечта сбывалась. Он становился популярен, но популярность, как ветер, надувала парус его суденышка и гнала, гнала вперёд. Встречи, интервью… Настроение было приподнятым. Но Паша ловил себя на том, что с каждой следующей удачей в нём сильнее проявлялся страх: вдруг все закончится, ветер удачи сменит направление, и он останется один, лицом к лицу с неведомой ему на самом деле опасностью. Он даже полагал, что в страхе виновата мама. Мама всё же дозвонилась до него и помимо обычных упрёков в эгоизме и забвении единственного близкого человека (оставшегося ещё, с сарказмом добавляла она) вдруг сказала тихо, так тихо, что сын прислушался: не лез бы ты в это дело, Павлик, мать хоть раз послушай.
– В какое дело? – переспросил Кеглер.
– С террористами этими. Арабы, Кавказ – не лезь туда. Не наше это дело. По телевизору видела тебя, так сердце заболело. Мягкий ты.
– Ладно, мама, далеко не полезу. Журналистская работа такая: сейчас это, завтра то…
Но царапина на стекле, отделяющем его от солнечного будущего, осталась.
Несколько раз он намеревался позвонить Логинову, поблагодарить, да заодно новенького понабраться. «Детонатор будущего», порождённый, конечно же, Володей, был в исполнении Кеглера принят публикой на ура, равно как и «мегатеррорист» Назари и его «сетевой джихад». Пресса разнесла по стране эти слова столь охотно, что не прошло и двух дней, как журналисты принялись жонглировать ими, обходясь без упоминания короткой и запоминающейся фамилии Кеглер.
– Такова се ля ви, – констатировал приятель с Останкино, – тут закон один – не отставай от поезда – раз, и напоминай, что ты машинист, – два. Короче, не будь лохом.
Вот Кеглер и напоминал о себе, носился по интервью да по круглым столам и каждый раз, вспоминая о Логинове, обещал себе отзвонить тому немедленно, лишь только вернётся домой. Но снова и снова откладывал это до утра. И ещё он вспомнил о Балашове, которого не встречал ни на одном из круглых столов в эти дни. «Нарушил слово-то?» – шепнул ему гаденький голосок.
– Ничего подобного. Наоборот, я его своей тельняшкой прикрыл, своим телом. Я на себя взял, – даже с некоей гордостью самоотверженности ответствовал этому подголоску Паша.
Одноглазый Джудда в Туркмении
13–14 сентября 2001-го. Ашхабад
Одноглазый Джудда[12] никогда не думал, что столько времени будет проводить у телеэкрана. Руководитель подготовки бесстрашных воинов Джихада в афганских лагерях Назари уже неделю находился в Ашхабаде, в пакистанском посольстве, имея на руках дипломатический паспорт этой страны. После того как громыхнуло в Нью-Йорке, он только и занимался тем, что смотрел то CNN, то «Аль-Джазиру», то «Россию». Были моменты, когда он чувствовал себя ребенком, получившим в качестве игрушки телевизионный мир, управляемый нажатием кнопок на пульте.