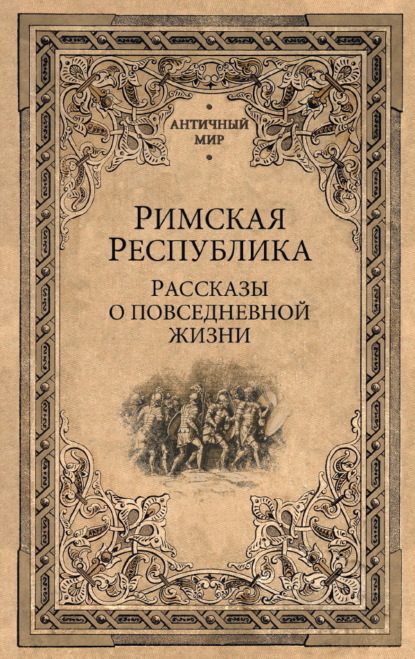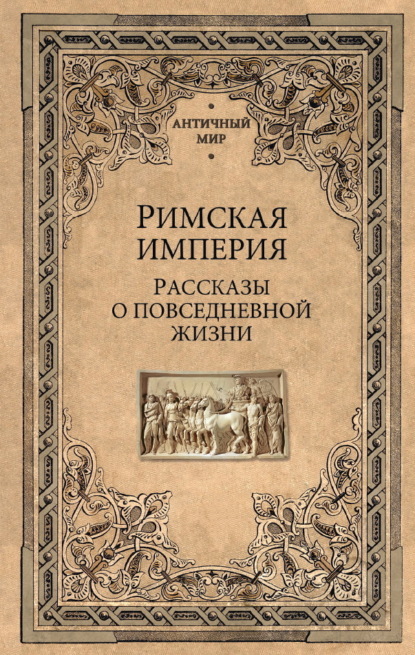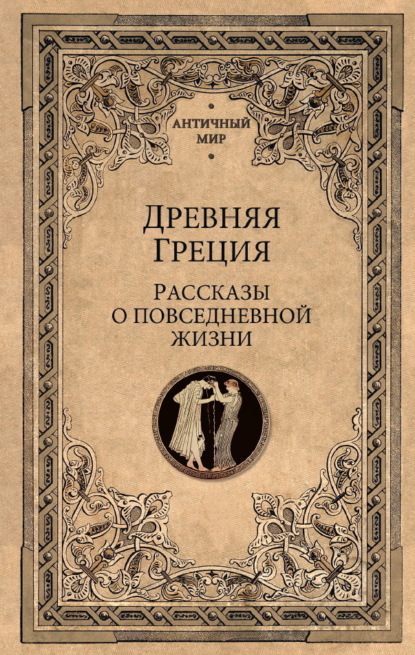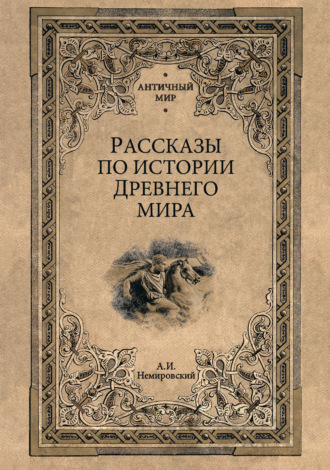
Полная версия
Рассказы по истории Древнего мира
Пифагор поднес яблоко ко рту и вонзил в него зубы. Брызнул сок.
– Бедные гипербореи, – проговорил он с полным ртом. – Они даже не знают о таком чуде, как это.
– А все-таки почему тебя заинтересовали наши плавания на закат?
Пифагор отложил яблоко.
– А я думал, что ты это понял. Ведь раз земля – шар, а ты с этим согласился, то, плывя на запад, ты попадешь в Индию. – Он повернул яблоко. – Я уже ее отъел… А потом окажешься в Картхадашт, за этим столом.
ТриадаС верхней палубы «Эака» Пифагор прощался с красавицей Картхадашт, одевающейся прозрачной дымкой, как шалью. «Вряд ли, – думал он, – какой-либо из эллинских городов оказал бы нам такое гостеприимство. Одни страшатся владыки эгейских вод Поликрата, другие – персов, третьи попытались бы нас втянуть в свои распри. Картхадашт же снабдила нас провизией до Пелопоннеса, а водой до Кротона, ибо в сицилийские воды нам, как друзьям картхадаштцев, заходить нельзя».
Приказав кормчим плыть в Кротон открытым морем, Пифагор продолжил занятия с Архиппом. Теперь это был единственно близкий ему человек, и он не только развивал его сообразительность, но и делился с ним мыслями и планами.
– Я побывал в твоем возрасте на Лесбосе. Позднее посетил египтян, финикийцев, евреев, халдеев и магов. Познакомился с обычаями этих столь не похожих друг на друга народов. Если бы ты, Архипп, спросил меня, какой из них живет по лучшим законам, я бы ответил, что все живут по плохим, но из этих законов можно извлечь разумное и создать наилучший закон для всего человечества, определяющий устройство государства, обязанности властей и граждан, отношения между родителями и детьми, поощрения и наказания. Тебе известно, что у эллинов, свободных от тиранов, власть принадлежит собранию народа и буле. Так было и у нас в Самосе до Поликрата. Я был в Картхадашт несколько дней, но узнал много интересного. У них не одно буле, а два. Я также введу малое буле. Оно будет состоять из мудрецов, хранителей справедливости и законности. Если бы такое буле было во времена наших отцов, оно не допустило бы, чтобы великий фригиец Эзоп[25] был рабом ничтожнейшего из самосцев Иадмона. Оно вырвало бы его из рук дельфийских жрецов, сбросивших мудреца со скалы по лживому обвинению. Малое буле не позволило бы спартиатам поработить мессенцев. Да и вообще откуда бы появились эти тупые и жестокие люди, если бы воспитанием ведали мудрецы? Буле в будущем будет состоять из тридцати мужей, исполняющих обязанности с тридцатилетнего возраста тридцать лет. И избирать оно будет из своей среды не двух судей, как в Картхадашт, а трех.
– Но почему ты, учитель, отдаешь предпочтение этому числу?
Пифагор встал. Глаза его зажглись священным блеском.
– Потому что в нем тайна космоса, великое, нерушимое единство. Это единство Творца, Земли и Человека, а также Солнца, Человека и его тени. Не будь Солнца, не было бы ни Земли, ни Человека, но не будь Человека и Земли, кто бы мог измерить время и составить календарь, кто бы мог соорудить храм, как подобие мироздания и его приближение к жизни?! Ощущая это, еще дикари, жившие родами, создавали триединые общности. Италийцы называют их трибами. Фракийцы устраивают поминальные пиршества из трех частей, называя их тризнами. Египтяне воздвигают пирамиды из треугольных плоскостей. У тирренов города имеют трое ворот, и боги разных народов испокон века соединяются по трое. Что еще можно к этому добавить? У многих народов, отличающихся языками, у эллинов, фригийцев, тирренов, венетов и даже далеких северных варваров, число «три» звучит одинаково и состоит из трех звуков. Триада соединяет, сплачивает богов, миры и людей.
Архипп восхищенно смотрел в глаза Пифагору.
– Когда ты занимался с Замолксисом, учитель, меня словно кто-то толкнул к вам, и я стал третьим.
– Да, нас пока трое, но будет тридцать, триста, три тысячи. Пока же мы основа будущей школы, фундамент мужского объединения и товарищества.
За занятиями и беседами время сгущалось, как молоко, взбиваемое сильными ударами, и вот уже кормчий объявил, что по ходу судна Кротон.
КротонТриера входила в бухту, имеющую форму двух серпов, соединенных рукоятями, но не сходящихся концами. Она могла вместить и триста кораблей, дав им надежную защиту от непогоды и неприятеля. На берегу можно было построить город, не уступающий размерами Милету, но, в отличие от него, скрытый от Борея северными горами. Эти горы лиловели на горизонте, и Пифагор не отрывал от них взгляда, словно бы пытаясь что-то за ними разглядеть.
Сам же Кротон был мал и с виду ничем не примечателен. Спустившись на мол, Пифагор решил, как обычно, по старшинству навестить сначала мертвых, а потом живых на агоре. Но, попав по пути к некрополю на агору, он изменил свои планы. Разговорившись с продавцом пиявок, Пифагор, к немалому своему удивлению, узнал, что городок, известный ему лишь как апойкия ахейцев, – центр самой крупной в эллинском мире школы врачевания и что глава ее Демокед[26], сын Каллифонта, пока еще в городе.
– Вот его дом, – сказал продавец. – Сразу за храмом Асклепия. Ты увидишь самого Демокеда, о встрече с которым мечтают многие.
Пифагор впервые слышал о такой знаменитости, да и вообще не имел представления о том, что в Великой Элладе процветает медицина.
В прихожей указанного продавцом дома, перед дверью с нарисованной на ней змеей, пьющей из чаши, толпилось несколько десятков страждущих в эллинских и варварских одеяниях. Пифагор хотел было уйти, чтобы выполнить намеченный им план знакомства с Кротоном, но в это время дверь отворилась и на пороге показался немолодой муж в неподпоясанном белом хитоне и кожаном фартуке поверх него. Встретившись с Пифагором взглядом, он спросил:
– А ты откуда?
– Я самосец, – ответил Пифагор.
Всплеснув руками, асклепиад[27] притянул Пифагора к себе.
– Видишь ли, – объяснил Демокед, – я как раз собираюсь на Самос. Меня пригласил Поликрат. Не нашлось бы на твоем корабле места для меня?
– Под началом у меня сорок кораблей, – объяснил Пифагор. – Мест сколько угодно. Но плывем мы не на Самос, а из Самоса и не по своей воле.
Кратко рассказав, почему корабли Поликрата оказались в столь далеких от Самоса местах, Пифагор спросил:
– На какую же болезнь жалуется Поликрат?
– Этого он не объяснил, но из письма я понял, что заболевание потребует длительного лечения. Я пробуду у него год, а затем посещу Гиппарха[28]. Это мой старый пациент. Ведь я лечил еще его отца, наблюдая одновременно и за ним.
– Я вижу, ты врачуешь тиранов?
– О да! Еще в юности я вылечил Периандра[29], и в благодарность он воздвиг у нас в Кротоне храм Асклепия. Среди моих пациентов и поэт Анакреонт. Я слышал, он сейчас на Самосе, у Поликрата. Вообще же я лечу всех, кто нуждается в моей помощи. Могу поставить диагноз и тебе.
– Благодарю тебя. Но в Фивах египетские жрецы ввели меня и в медицину. Я сам ставлю себе диагноз. Вавилонские лекари дали мне знание о целебных травах.
– Ты был в Египте и Вавилоне! Счастливец! Но я даже не знаю, как тебя, наварх, зовут.
– Пифагор, сын Мнесарха. Как я уже тебе объяснил, я наварх поневоле. Я вернулся на Самос после двадцати лет странствий. Хотел открыть школу, чтобы знания мои не ушли вместе со мной. Но вот…
– А почему бы тебе не открыть школу у нас? Здесь жизнь спокойнее, чем в старой Элладе. Персы далеко. Автохтоны[30] пока не тревожат, у нас хорошая вода, хороший воздух.
Пройдя через раздраженных задержкой пациентов Демокеда, Пифагор оказался сразу же среди самосцев с разных кораблей, явно чем-то взволнованных.
– Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Нет, – ответил за всех муж лет пятидесяти, имени которого Пифагор не знал, хотя он уже попадался ему на глаза. – Корабли готовы к отплытию. Твой ученик исчертил всю палубу…
– Это не он исчертил, это оставили свои следы боги, – вставил Пифагор.
– Пусть боги! А мы, смертные, ходили по этому городу, как и ты. Посмотрели. Поговорили с людьми. И теперь хотим спросить тебя: куда ты нас ведешь, Пифагор? На Самосе – Поликрат. В других местах нас никто к себе не ждет, а отсюда никто не гонит. Мы можем избрать себе в Великой Элладе любое место. Поселиться в Кротоне, Метапонте, Сибарисе, Таренте. Где захотим.
– Как твое имя? – спросил Пифагор.
– Телекл, сын Аристодема.
– Ты прав, Телекл. На Самос нам нет пути, а отсюда нас никто не гонит. Но корабли, которыми мы овладели, принадлежат Самосу и их ждут самосские изгнанники, ведущие войну с Поликратом. И им решать, как с этими кораблями поступать. Я надеюсь, что, завладев Самосом, изгнав Поликрата, они вывезут сюда на этих и на других кораблях, какие захватят, всех самосцев. Ведь мы их не можем бросить в беде, в персидском рабстве. Но в этом случае нам надо будет не расселяться по эллинским городам, а отыскать место для нового Самоса. Возьми на себя это, Телекл!
– Я согласен! – отозвался Телекл.
– Мы останемся с ним! – послышались голоса.
– А мы будем с тобой, Пифагор!
БратКорабли вошли в гавань Трезен. В окрестностях этого города, как узнал еще на Самосе Пифагор, находился стан самосских изгнанников. Городок был маленький, но старинный, знаменитый как родина Тесея и место гибели Ипполита[31].
После благоприятного плавания следовало принести жертву Посейдону. Пифагор сразу и двинулся к храму Посейдона, покровителя Трезена, в сопровождении сорока начальников кораблей. Сопровождать их взялся один из местных старожилов, для которого, видимо, указывать путь чужеземцам было источником существования. Он повел мимо участка Ипполита с древним храмом и статуей, через акрополь, поскольку храм Посейдона находился у его подножия, со стороны моря. К удивлению самосцев, обязанности верховной жрицы Посейдона исполняла миловидная девушка. Она оставалась в этой должности до замужества. Заплатив ей деньги за жертвенных животных и дав их заколоть у алтаря Посейдона, самосцы прямиком направились к стану изгнанников, место которого указал тот же проводник. Не успели они пройти и стадия, как к Пифагору бросился стоявший на обочине юноша.
– Пифагор! Как ты тут оказался? – воскликнул он, обнимая брата.
– Я привел сорок своих кораблей, – ответил Пифагор с улыбкой.
– Да ты шутишь! Откуда у тебя корабли?
– Не шучу. Вот их начальники. Они подтвердят, что находятся под моим командованием, а до того подчинялись Поликрату и едва не оказались у Камбиса. Я же от своего имени прошу тебя или кого другого их принять, ибо быть навархом не мое дело и меня ждут иные дела.
И все же Эвном не поверил сказанному и пожелал взглянуть на корабли. Желание его было удовлетворено. И, уединившись с Пифагором в каюте, он услышал историю о захвате кораблей во всех подробностях, заодно и о странствиях брата, а затем спросил:
– Какое же дело может быть важнее, чем освобождение родины?
– Мне кажется, – начал Пифагор, – приведя сорок кораблей, я не уклонился от священных обязанностей гражданина. Но, вернувшись на Самос, я надеялся основать там школу. Остров же оказался под властью слишком суровой для свободного человека и свободных занятий. Даже если его удастся освободить от тирана, в десятке стадиев от нас захваченный персами Милет. Нельзя жить на вулкане! На пути из Картхадашт в Трезен я посетил Великую Элладу. Из земель, заселенных эллинами, это самое тихое место, хотя варвары, как и всюду, под боком. Мне же нужно десять – пятнадцать лет спокойствия, чтобы написать справедливые законы, чтобы вывести породу эллинов, не уступающих в мудрости египетским и вавилонским мудрецам, но служащих эллинской идее.
– Какое же прекрасное дело ты избрал, брат! – воскликнул Эвном.
– Если ты меня одобряешь, – продолжал Пифагор, – я надеюсь, у тебя найдутся время и желание приехать ко мне. Привезешь также и родителей. Пока же посодействуй, чтобы мне для дела, которое ты назвал прекрасным, была выделена одна триера – я укажу тебе какая. Со мной поедет лишь один ученик, другой у меня сейчас в Индии.
– Когда ты намерен нас покинуть?
– Через месяц. Позднее начнутся зимние бури. Мне же надо взять из Древней Эллады в новую плоды ее мудрости в свитках, посетить Аргос и его храм Геры, побывать в Олимпии.
– А мы тем временем высадимся на Самосе. Ведь у нас теперь благодаря тебе есть корабли. Поликрат же гостит в Магнезии, у сатрапа Орета.
Пифагор побледнел. Глаза его расширились.
– Тебе плохо? – всполошился Эвном.
– Свершилось… Смутно я это ощущал. Предчувствовал, что он плохо кончит… Но ведь не так… Не так! О, как же он мучается… Спасите его, боги…
– Да объясни же наконец, что с тобой? О ком это ты вещаешь, как пифия? Кого должны спасти боги?

Распятие Поликрата. Художник Сальватор Роза. 1664 г.
– Слушай меня, Эвном! В космосе извечно действуют могущественные силы притяжения и отталкивания. Незримые, они во всем – в камнях, деревьях, в водах. Но есть на земле места, где они, выходя наружу, наиболее могущественны. Там происходят страшные бедствия, совершаются чудовищные преступления. Там нельзя жить. Люди оттуда бегут, не в состоянии понять почему. О, если бы чувством опасности обладал несчастный Поликрат! Ведь одно имя Магнезии должно было бы его напугать. Ведь там камни притягивают камни!
– Ничего не понимаю. О свойствах магнезийской руды и выплавленного железа мне известно. При чем же тут Поликрат, для которого любая смерть хороша?!
– Запомни этот день, Эвном! Поликрата притянула Магнезия. Сейчас он погибает на кресте, как последний раб.
– Так ты еще и провидец! Раньше я за тобой этого не замечал!
– Раньше я им не был. Но в Индии меня повели в глубокую пещеру, где сила притяжения превышает магнезийскую в тысячу раз. И я приобрел свойство притягивать людей… Тех, в которых присутствует та же сила…
– Людей… Как магнезийский камень?
– Да! Вспомни у нас на Самосе статую Геры. Богиня выходит из камня, обретая человеческий облик. Так и человек, наделенный магнезийским свойством, может извлечь из пустой породы все, достойное вечности! Теперь я сказал тебе все, брат.
Чудо в храме ГерыОкруглые склоны холмов, плавно сходя в низину, напоминали лепестки асфодели, а розовевшие от перстов Эос колонны – тычинки.
– Цветок Геры! – ликующе пропел Пифагор. – Взгляни, Архипп, разве эти три холма, сходящиеся у храма, как у сердцевины, не напоминают цветок?
– Правда, цветок! – ахнул Архипп.
– Тогда давай соберем для нее цветы и поднесем ей, владычице городов и героев, выросшей на этой засушливой почве и пленившей Зевса.
И вот уже Пифагор и Архипп у колонн святилища с охапками полевых цветов. Но вход в храм им преградила старуха в белом одеянии со злым лицом.
– С цветами в святилище нельзя! – проговорила она хриплым голосом.
– А с чем можно? – спросил Пифагор.
– С жертвами, чужеземцы. Входя в теменос[32], вы должны были видеть коров и телят, трех павлинов. Кукушки же раскуплены. Приобретя что-либо из имеющегося или изображение животных и птиц из серебра, бронзы или дерева, вы будете допущены к лицезрению Геры.
– А я уже ее видел! – сказал Пифагор. – У нас на Самосе точная копия вашей Геры и тоже из грушевого дерева.
Старуха отступила:
– Самосцы, входите! Но ваши дары оставьте у входа. Мы их скормим возлюбленным Герой животным.
Опустив цветы на землю, Пифагор и Архипп вступили в храм. Он встретил их полумраком и блеском пожертвованных владычице драгоценностей. Жрица шла сбоку, поясняя:
– Эта золотая кукушка – дар властителя Самоса Поликрата. Это изображение павлина на серебре из драгоценных камней – приношение Креза, это деревянная раскрашенная корова с золотыми рогами – подарок Амасиса.
Когда же дошли до оружия, Пифагор вгляделся в один из старинных щитов, воскликнул:
– А это мой щит.
– Твой?! – протянула жрица. – Но это же дар Менелая, лжец!
– Ты меня не поняла, я не сказал, что я принес этот щит в храм. Его действительно принес Менелай, супруг Елены, брат Агамемнона. Но щит принадлежал мне, когда я был троянцем Эвфорбом, точнее тирренцем, союзником троянцев.
– Нет, ты безумец, – проговорила старуха. – Как твое имя?
– Пифагор, сын Мнесарха!
– Вот видишь. А Эвфорб, побежденный Менелаем, жил за восемьсот лет до тебя.
– Я это знаю. Тогда я и был Эвфорбом, сражавшимся на стороне Трои. И поэтому этот щит мой, и я хочу его иметь.
– Для этого тебе придется представить доказательства, а не болтать.
– Я согласен, ты же поклянись, что, если я докажу, что щит – моя собственность, ты мне его вернешь.
– Клянусь Герой, ты его получишь!
– Если ты повернешь щит, ты сможешь прочесть имя Эвфорба, которое я носил, а не Менелая или Агамемнона. Нет, не торопись поворачивать! Мое имя будет написано не нынешними финикийскими, а древними письменами, где каждый знак, как в письме одной из египетских систем письма, передает слог.
– Мне трудно это понять. Я никогда не поворачивала этого щита, если на нем действительно имеется два знака…
– Не два, а три, ибо имя мое потеряло одну гласную.
– Ну пусть три, ты получишь этот щит, лишь бы они там были.
– Договорились! Теперь поворачивай!
Жрица повернула щит и, осмотрев его, торжественно сказала:
– Тут нет никаких знаков, ни двух, ни трех, ни четырех.
– Так ты их не найдешь. Ведь щит скреплен в этом месте пластинкой, чтобы он не разваливался, разумеется, не Менелаем. Сейчас я ее приподниму. Вот они, эти три знака.
Жрица остолбенела. На лбу у нее выступил пот.
– Это чудо! Чудо! – забормотала она. – Чудо в храме сотворено Владычицей! Это она привела тебя в храм. И вскоре сюда соберутся паломники, если ты, конечно, оставишь этот щит на время, взглянуть на него! А я еще не хотела тебя пустить без даров!
– Зачем на время?! Навсегда! Пусть он остается навечно. Но только не забывай объяснять посетителям, что это щит Эвфорба, ставшего Пифагором, возвращенный ему, но оставленный в храме как его дар Гере.
Дорога в ОлимпиюОдна из семи ведущих в Олимпию дорог проходила над храмом Геры. Поднявшись на холмы, Пифагор и Архипп оказались среди людей, двигающихся в одном направлении. Среди них не было ни одного знакомого лица, но, поскольку у всех идущих была лишь одна цель, в раскаленном неподвижном воздухе сквозило нечто всех сближающее, и праздник эллинского единения начался задолго до его торжественного открытия. На привалах у источников или в тени деревьев люди охотно делились запасенным на дорогу съестным, а те, кто уже бывал в Олимпии, – воспоминаниями. И хотя каждый из говоривших с гордостью сыпал именами олимпиоников[33], прославивших его город и удостоившихся необыкновенных почестей, все ощущали себя эллинами и были единодушны перед страшной тучей, идущей с востока.
Не раз в разговорах всплывали имена Креза и Амасиса, а также и Поликрата, соперничавшего с варварскими царями в щедрости к Олимпии. Многим уже была известна страшная смерть сына Эака на кресте, и рассказ о том, как дочь тирана пыталась удержать отца в гавани, предсказывая беду, обрастал по пути в Олимпию все новыми и новыми подробностями.
Обычно, узнавая, что Пифагор и Архипп – самосцы, спутники сочувственно умолкали, но однажды какой-то фессалиец проговорил:
– Эх! Был бы ваш Самос блуждающим островом, как Делос до рождения на нем Аполлона, перетянуть бы от Азии к нашему берегу.
– Видишь, – сказал Пифагор Архиппу, когда они остались одни, – не только нами, но и посторонними людьми осознано, что на Самосе жить больше нельзя. И если Самос нельзя перетянуть на запад, туда надо перетянуть самосцев.
По мере приближения к долине Алфея дорога заполнялась все больше и больше и напоминала священную улицу на Самосе в день Геры, на который собирался весь остров. Было жарко, как на сковороде. Одеяния и обнаженные части тел идущих покрылись густым слоем пыли, но сквозь пыль блестели устремленные к Олимпии глаза.
Да вот и она! Возникли, как мираж, сверкающие кровли храмов, вознесенные над густой зеленью священной рощи, над белокаменной оградой альтиса[34]. Самосцы прибавили шагу и оказались перед целым городом из разбитых в тени платанов шатров – временных жилищ тех, кто успел прибыть заблаговременно, среди шума и гомона толпы, собравшейся со всех сторон населенного эллинами мира, от берегов Танаиса и предгорий Кавказа, места кары Прометея, до Столпов, носящих имя Геракла.
В толпе, словно иглы в густой ткани, сновали водоносы, торговцы пирожками и глиняными фигурками животных для тех, кто не мог или не хотел раскошелиться на покупку телки или барана для заклания Зевсу Олимпийскому. Самосцы растерялись, не зная, куда идти. Но тут послышался крик: «Пифагор!» – и к ним, расталкивая толпу, пробился немолодой человек.
– Пифагор! – кричал он, обнимая поочередно земляков. – Это я, Нимфодор. Помнишь, ты мне нашел в куче шерсти драхму, а я отыскал в такой толпе тебя!
– Ты знал, что я буду в Олимпии? – удивился Пифагор. – Откуда?
– У нас был твой брат Эвном. Мы встретились на том же месте, где с тобой. И я его проводил домой. И по дороге все к нему бросались! Ведь он брат Пифагора Сотера[35]! Так теперь тебя называют все!
– Как мои старики? – перебил Пифагор.
– Здоровы и ждут с тобой встречи! Когда отец твой Мнесарх приходит на агору, его окружает толпа, и он рассказывает, каким ты был в детстве, как он не мог заставить тебя вырезать геммы, потому что Гера определила тебе не камни, а мудрость для спасения отечества. И я тоже там с Алкмеоном и Тимофеем, они уже ходят на своих ножках, и все смотрят на них как на невидаль. Жена моя связала для них шерстяную обувку, чтобы не носить ничего из убоины. А вот кормить ли их мясом или нет, не знаем. Да что мы стоим? Ведь я уже шатер разбил.
– Но надо же все осмотреть, – заикнулся Архипп.
– Осмотрите после. Ведь завтра уже открытие игр, и надо набраться сил.
Великий деньИ вот наступил тот день, которого с нетерпением ждали все эллины четыре года. Огромный стадион заполнился людьми, а те, кому не хватило места, залезли на деревья. Тысячи глаз устремлены к входу, откуда должны появиться судьи и участники состязаний. Еще на заре в булевтерии мальчики, юноши и мужи столпились перед дымящейся жертвой и принесли клятву в соблюдении правил, и каждый положил ладонь на край алтаря. Теперь же они обходят прямоугольник стадиона перед зрителями, и их земляки выкрикивают их имена и желают победы. Но одно имя заглушает все. «Милон! Милон!» – гремит по стадиону. Он герой не какого-либо города, но всей Эллады! И кажется, все знают, что этот кротонец, которому нет и сорока лет, одержал свою победу в беге на пифийских играх еще мальчиком, а затем шесть раз в Олимпии был удостоен венка из священной оливы как победитель в борьбе, и за те двадцать лет сумел десять раз победить на истмийских играх и девять на немейских. Да это же Геракл нашего века! Никто в мире не может столкнуть его с диска, никто – разжать его огромную ладонь, в которой железными пальцами сжат плод Афродиты гранат[36].
Но куда обращен взор самого сильного в мире человека? Кого он ищет среди зрителей? Вот на лице скорее мудреца, чем борца, появляется выражение радости. Он кого-то нашел! Он отделяется от других и поднимается по склону, и все уступают ему дорогу. И вот он останавливается перед человеком его лет в войлочной тиаре на голове и пестром одеянии. И те, кто был рядом, могли услышать:
– Пифагор! Не удивляйся! Мне рассказывал о тебе мой несчастный зять. Да и сам я был в соседнем помещении и запомнил твой разговор с Демокедом слово в слово! Я видел тебя, ты меня нет. Позволь, я провожу тебя на место, которое достойно тебя!
И они оба идут к местам для почетных зрителей, и известный лишь немногим самосец садится рядом с высшими должностными лицами Олимпии – жрецами, почетными чужестранцами. И все эти люди встают, приветствуя незнакомца, которого привел сам Милон, еще не зная имени этого человека и не догадываясь, что самый сильный человек на земле с этого великого дня стал учеником мудрейшего из мудрых.
Впервые за все время существования Олимпийских игр нарушена их процедура. Но это никого не смущает. Ведь нарушитель сам Милон!
Глашатай, выходя на середину поля, провозглашает:
– Пусть выходят состязающиеся в беге!
И состязания начинаются.
Золотое бедроНикогда еще гавань Трезен не знала такого многолюдья. Провожать Пифагора пришли не только самосские изгнанники, не только трезенцы, но и жители Коринфа, Аргоса и других городов Пелопоннеса. Известность ему принесло чудо в храме Геры, привлекшее в святилище тысячи паломников. А вслед за этим распространился слух, что у Пифагора золотое бедро, дарованное ему самим Аполлоном Гиперборейским.
Напрасно Пифагор объяснял, что из золота у него только цепь, которую ему как почетному гражданину подарили картхадаштцы, что с Аполлоном он не общался, у гиперборейцев не гостил, а побывал в землях финикийцев, халдеев, индийцев и евреев и научился многому, что может показаться чудом. Но все равно за ним ходили толпами. Однажды, рассвирепев, он поднял гиматий и хитон и показал бедро зевакам. И после этого все равно нашлись такие, которые уверяли, что бедро у Пифагора золотое.