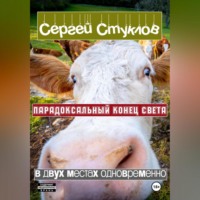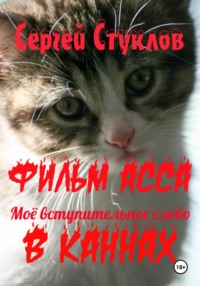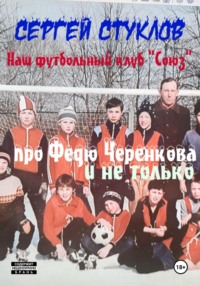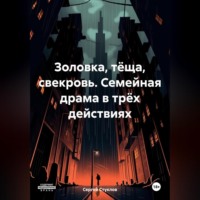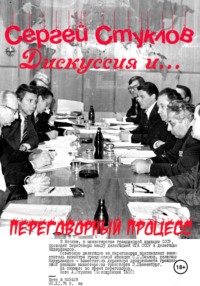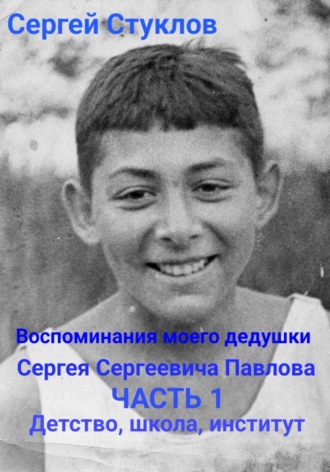
Полная версия
Воспоминания моего дедушки Сергея Сергеевича Павлова. Часть 1. Детство, школа, институт

Сергей Стуклов
Воспоминания моего дедушки Сергея Сергеевича Павлова. Часть 1. Детство, школа, институт
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕМЬЕ
Родился я 9 июня 1925 г. в г. Москве в родильном доме имени Грауэрмана, что на Арбате (теперь Старый Арбат) недалеко от Арбатской площади. Это был один из лучших родильных домов в Москве, где появились на свет десятки тысяч москвичей, в том числе и мои дети Маша и Ваня, а также дети Славы Калашникова Анечка и Алеша. В начале 90-х годов родильный дом был закрыт, в доме нашли убежище целый ряд учреждений, как непосредственно связанных с медициной, так и очень далеких от нее типа Сберегательного Банка. Если кого заинтересует мой вес и рост при рождении – пожалуйста: вес 4,0 кг., рост – 52 см. Семья, в которой я родился, состояла из четырех человек: мамы, Ольги Сергеевны Павловой, урожденной Поповой, папы, Сергея Георгиевича Павлова, бабушки (бабы), Лючии (Лукии) Федоровны Поповой, урожденной Бостанжогло и дедушки (деди) Сергея Александровича Попова. Проживала наша семья в двухэтажном особняке в одном из старинных арбатских переулков, Мало-Николо-Песковском, который шел от Арбата к знаменитой Собачьей площадке, на которую выходило несколько особняков, в которых размещалось музыкальное училище им. Гнесиных, Союз композиторов и еще ряд учреждений, а самым высоким зданием в торце площадки было четырехэтажное здание поликлиники. Посреди площадки перед поликлиникой был небольшой сквер с остатками фонтана. К сожалению, в начале 60-х годов по инициативе Н.С.Хрущева началось строительство Нового Арбата (тогда Калининского проспекта), и было снесено несколько старинных зданий, в том числе и наш дом, исчезла, с карты Москвы и Собачья площадка. С нашей стороны переулка остались дома №№ 2 – 8, а с другой стороны переулка сохранился даже восьмиэтажный дом № 11, стоявший как раз напротив нашего. В общем, нашей семье – не повезло!
Моя мама была старшей дочкой в семье Поповых, а всего у Лючии Федоровны и Сергея Александровича было четыре дочери и ни одного сына: Ольга, Зина, Таня и Мариша. Самая младшая – Мариша – умела еще в детстве, а Зина в начале 20-х годов вышла замуж, но вскоре тоже умерла, причем я так до конца и не понял: то ли от тяжелой болезни, то ли покончила жизнь самоубийством. Таким образом, я помню только одну из маминых сестер – тетю Таню. Но о ней – позже. Мама получила очень хорошее образование: она окончила одну из лучших гимназий Москвы – гимназию Хвостовых. В этой гимназии давалось прекрасное воспитание и образование, причем преподавались не, только гуманитарные, но и точные науки. Кроме того, мама дома занималась с гувернанткой-француженкой, а также английским и немецким языками, но знала эти языки хуже французского. Одновременно мама окончила музыкальное училище Гнесиных по классу фортепиано. После окончания гимназии с одной четверкой мама поступила на Высшие Женские курсы на химический факультет. Однако в 1918 г. ей пришлось оставить учебу, не дотянув полгода до диплома высшего учебного заведения – надо было зарабатывать, чтобы содержать отца и мать и дать возможность получить высшее образование сестре Татьяне. Мама поступила на работу в Высший Совет народного хозяйства Российской Федерации, а затем – кажется уже после моего рождения – она перешла на работу во вновь созданный журнал «Химическая промышленность», в котором проработала редактором более сорока лет. В ВСНХ мама познакомилась с моим папой, Сергеем Георгиевичем Павловым, который также там работал.
Папа был на 13 лет старше мамы; он окончил реальное училище, после чего закончил бухгалтерские курсы, а затем, занимался революционной деятельностью. К какой партии он принадлежал – не знаю, но перед началом первой мировой войны царская охранка его арестовала и посадила в Таганскую тюрьму, где он просидел до 1917 г., когда его освободила Революция. Содержание в тюрьме подорвало его здоровье и привело к потере слуха. Папа получил инвалидность, а когда за революционную деятельность начали назначать персональные пенсии, он получил персональную пенсию республиканского значения. Не помню размер пенсии, но она давала льготы по оплате квартплаты, а также бесплатный проезд на городском транспорте и на пригородных поездах. Для меня это было, пожалуй, главным. Персональная пенсия давала также право на посадку в автобусы. Это было очень важным и приятным для меня: уже с 5 – 6 лет я ездил с папой за город: чаще всего в Рублево на автобусе и в Царицыно-дачное на пригородном поезде с Курского вокзала. Мы гуляли по лесу в Рублево, по парку и развалинам дворца в Царицыно. На моей памяти папа работал заместителем главного бухгалтера и главным бухгалтером внешнеторговых объединений «Легтехсырье» и «Табакэкспорт» откуда он приносил мне срезанные с конвертов почтовые марки ряда стран, что послужило началом моему увлечению коллекционированием почтовых марок.
Дедя, С.А. Попов, происходил из купеческой семьи, получил хорошее образование: гимназию и юридический факультет Московского университета, он получил статус присяжного поверенного и стал почетным гражданином Москвы. Семья Поповых владела рядом предприятий в Московской области и домами в городе, в частности Лоскутной гостиницей, одной из лучших гостиниц в городе. Дед был акционером и директором Лоскутной гостиницы, здание которой было расположено рядом с «Охотным рядом», рынком, в самом начале Тверской с левой стороны улицы, если смотреть со стороны Кремля. Расположение в самом центре города сделало гостиницу очень привлекательной, и она имела постоянную клиентуру. Сергей Александрович имел широкие связи среди московской интеллигенции, особенно в театральной сфере, и особенно дружеские отношения у него сложились также с купеческой семьей Алексеевых и с Константином Сергеевичем Станиславским. Дед принимал участие во многих театральных начинаниях, происходивших в городе, дружил со многими видными актерами и режиссерами начала 20 века. Знание истории развития театра в Москве и России позволило ему уже при советской власти стать старшим научным сотрудником первого и единственного в Москве Театрального музея им. Бахрушина, где он написал целый ряд научно-исследовательских работ, в частности большой труд о театральном деятеле Лентовском, работу, которую дед завещал Музею. Сергей Александрович был принят членом в Союз театральных деятелей Советского Союза, что позволяло ему ежегодно ездить по льготной путевке на его любимый курорт Кисловодск. Кстати его членство в этом Союзе уже после его смерти позволило бабе Люте и маме в начале пятидесятых годов поехать на отдых в дом отдыха «Плес», принадлежавший этому Союзу.
Баба Лютя – Лючия Федоровна Попова (в девичестве Бостанжогло) была из небогатой ветви известной и Греции богатой семьи Бостанжогло, родом из Константинополя. Её отец Феодор Георгиев и красавица-мать Ефросинья Константинова приехали в конце 19 века в Россию и обосновались в Москве. Фамилия Бостанжогло, видимо, сыграла не последнюю роль в назначении Феодора Георгиева консулом Греции в Москве (посольство Греции в России как и генеральное консульство естественно находились в столице России – Санкт-Петербурге). У четы Бостанжогло родилось три сына (Михаил, Константин, Василий) и три дочери (Елена, Лючия и Александра). Когда они подросли и стали выезжать в «свет» Сергей Александрович влюбился в среднюю сестру и вскоре с ней обвенчался, причем власти имя Лючия заменили на русское Лукия, но до конца жизни бабушку все равно называли Лючия Федоровна. Она получила отличное образование: полный курс гимназии и прекрасное знание русской классической литературы, а также приличное владение французским языком. Греческого языка баба Лютя не знала или полностью забыла, так как я ни разу не слышал, чтобы она разговаривала на этом языке со своими старшими братьями. Баба Лютя была сама грамотность русского языка, и были случаи, когда после того, как мама иногда проверяла мои домашние задания, баба Лютя находила ошибки, пропущенные мамой, человека редкой грамотности.
Как я уже отмечал выше, жили мы в двухэтажном особняке, до революции принадлежавшем семье Поповых. После революции семью «уплотнили», оставив ей две комнаты по 35 кв.м. с окнами, выходящими в переулок. На первом этаже было еще 6 – 7 комнат, разных размеров, в которых проживало 4 семьи. Уже после моего рождения имевшаяся в квартире ванная комната была переоборудована в жилую, и появился еще один жилец, а затем помещение парадного подъезда, которое было закрыто, въехало еще два жильца, а из передней сделали еще одну комнату, где поселилась семья из трех человек. В конце коридора, который шел буквой «Г», была расположена кухня, где стояло 10 – 12, а может и больше столов с керосинками и примусами. В кухне было два водопроводных крана – и это на весь дом. В кухне же был выход во двор – единственный выход из дома, для всех жильцов. В середине коридора была лестница на второй этаж, где было еще 7 или 8 комнат, где проживало еще 5 семей. Таким образом, в нашей квартире в разное время проживало от 35 до 42 жильцов. Туалет, извиняюсь, был один, и по утрам в него всегда выстраивались очереди. Надо сказать, что жильцы этой коммунальной квартиры, в основном, жили дружно, особых ссор в доме не было, но, конечно, без мелких инцидентов на кухне не обходилось. В доме было и подвальное помещение с отдельным входом также со двора. Там проживало еще более 10 семей, во дворе были кирпичные сараи, где жильцы держали дрова и уголь для отопления, так как у каждой комнаты была своя печка В комнате, где жили баба Лютя и дедя был камин, очень красивый и хорошо обогревавший комнату. Но разжигали его довольно редко, так как уголь был дорогой. Камин был сделан по эскизам Васнецова, и, когда в 1964 г. дом сносили, мама и тетя Таня с великим трудом договорились, чтобы его аккуратно разобрали и отправили на хранение в Новодевичий монастырь. Думаю, что сейчас он украшает один из коттеджей на знаменитом Рублёво-Успенском шоссе. Когда мама меня возила гулять в коляске, она познакомилась с Татьяной Петровной Августинович, родившей 15 августа того же года сына Алешу и проживавшую в доме № 8, т.е. через дом от нашего. Татьяна Петровна была моложе мамы, очень бойкая дама, общительная и спортивная женщина, так, она занималась в клубе парашютистов – что тогда было очень модно – и совершила несколько десятков прыжков. Ее муж – Лёшин отец – Александр Ильич Зак, был очень веселым и остроумным человеком. Жили они тоже в коммунальной квартире, ранее принадлежавшей его отцу. Семье Заков оставили 4 комнаты из 9 или 10. В одной проживали Алешины бабушка и дедушка, в другой – сестра бабушки, а в двух других – семья Зака младшего.
Наши с Алешей мамы подружились и часто ходили вместе гулять. Когда нам исполнилось года два или три, Татьяна Петровна предложила найти женщину, которая бы с нами гуляла. Вскоре Татьяна Петровна нашла мадам Мари – француженку, которая до революции работала гувернанткой в одной из московских семей. Мадам Мари практически не говорила по-русски, но, естественно, отлично говорила на своем родном языке. Гуляла она с нами по 3 – 4 часа в день сначала в нашем районе, большей частью на Собачьей площадке, а потом водила нас гораздо дальше в зоопарк и даже в район Шмитовских прудов. Она, естественно говорила с нами только по-французски, разучивала с нами стихи французских поэтов и басни Ла Фонтена. У нее была дочь, которая училась в Институте иностранных языков, она тоже говорила с нами по-французски, но французский у нее был уже с небольшим русским акцентом. Какое-то время к нам присоединялись еще один – два мальчика или девочки нашего возраста, но они не приживались и вскоре мы оставались снова вдвоем.
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
Несмотря на стесненное финансовое положение нашей семьи, мама и папа делали все возможное, чтобы на лето вывозить меня на дачу. Лето 1926 г., а затем и два (или три) последующих года мы жили в Царицыно-дачное. Это был поселок в получасе езды на поезде с Курского вокзала. Я, конечно, не помню, но родители говорили, что в начале лета весь поселок утопал в белых цветах вишни. Снималась одна (или две) комнаты с верандой обязательно с садом, где я мог спокойно играть, а мама доставала портативную пишущую машинку и садилась за работу – собственно говоря, благодаря ее переводам мы и могли снимать дачу. В те годы была введена пятидневка, и выходные падали на дни; заканчивавшиеся на «5» и «0». Поэтому папа приезжал почти каждый день. В выходные, когда мне уже было три – четыре года, мы отправлялись по левую сторону от железной дороги, а жили мы по правой, в прекрасный парк с развалинами бывшего Екатерининского дворца с густыми аллеями и сетью прудов. Уж не знаю от кого стало известно, что очень дешево можно проводить лето на Оке в городе Касимов, что располагался недалеко от Нижнего Новгорода. Так как цены в Царицыне значительно подскочили, решили поехать на лето в Касимов. Это была целая экспедиция: в Касимове делал остановку пароход, ходивший каждую неделю из Москвы (Южный порт) по Москве-реке и Оке. Пароход был старый, шел очень медленно, причаливал к каждой небольшой пристани. Каюта была довольно большая, не очень шумная, и я был и в восторге от путешествия. Плыть был довольно долго – пять или шесть дней. Баба Лютя напекла нам в дорогу целую гору пирожков, которые я стал поглощать с самого утра, а отплывали мы вечером. На каждой стоянке папа выходил на пристань и что-нибудь покупал из съестного, придирчиво выбирая, как ему казалось, самое свежее: он был страшно брезглив! После обеда, за которым я съел еще несметное количество пирожков, я почувствовал себя плохо: температура поднялась до 40 градусов, тошнило и т.д. Папа обратился к капитану с просьбой вызвать врача на следующую стоянку парохода. По-моему это была Елатьма, а может быть другой населенный пункт, но доктор действительно появился, пожилой, как сейчас помню, с седой бородкой клинышком. Осмотрев меня и выслушав маму о съеденных пирожках, он достал из чемоданчика пузырек с касторкой, заставил меня выпить столовую ложку и только сказал: «глотаешь ты еду, как пеликан». Эти его слова я запомнил на всю жизнь (а может быть их мама часто повторяла). Ночью – извиняюсь – пронесло, А утром я был здоров. Поездка на пароходе нам понравилась: спокойная река, изредка попадались лодки с рыбаками-удильщиками, очень мало населенных пунктов, а в основном леса, ухоженные поля и цветущие луга. Папа покупал на пристанях летние ягоды, иногда внушавшие ему доверие молочные продукты. На каждой пристани выходили и садились новые пассажиры, но основная масса ехала до Нижнего Новгорода и обратно – такие поездки тогда только входили в моду. После войны из Москвы отправлялось по несколько пароходов (теплоходов) в день в Нижний Новгород (тогда уже Горький) и Астрахань, а затем и в Ростов и на Валаам с экскурсантами в обе стороны, и свободных мост не было. И, действительно, плыть на пароходе – прекрасный отдых, масса впечатлений и никаких забот.
Кода мы приплыли в Касимов, вместе с нами сошли всего несколько человек – таких же «данников». Папа оставил нас с мамой на пристани с вещами, а сам пошел подбирать пристанище. Так как он был чересчур разборчив, то пришел он самым последним, и мы уже начали волноваться. Но выбрал он в общем неплохой дом с русскими хозяевами (в Касимове жили почти одни татары) и большим садом, он снял две комнаты с отдельным входом. Дом был расположен на левом высоком берегу Оки, в шаговой доступности до реки. Папа снял это помещение, как он оказал «за гроши». Он оставался с нами двое суток, дождавшись нашего же парохода, который дошел до Нижнего Новгорода, простоял там сутки и возвращался в Москву. Папа, естественно побывал на рынке, был удовлетворен разнообразием продуктов, но очень расстроился тем, что на рынке был совсем небольшой выбор говядины, но зато все прилавки ломились от конины. Папа строго-настрого запретил маме покупать конину и кобылье молоко, которое было очень дешевым, а коровье молоко гораздо дороже, как и говядина по сравнению с кониной. За говядиной и коровьим молоком надо было ходить на рынок с раннего утра. Зато овощи и фрукты были на рынке в изобилии и по доступным ценам. После папиного отъезда мы с мамой утром после ее возвращения с рынка (раз в два-три дня) ходили на Оку. Слева от пристани вверх по течению был прекрасный пляж с очень мало покатым дном: мне надо было сделать не менее 8 -10 шагов, чтобы вода достигла груди. На пляже было полно народа, особенно после обеда, но мы ходили утром, когда купающихся и загорающих было еще мало. Ребята, в основном местные татарчата, все хорошо плавали и наперегонки переплывали Оку. Я же барахтался около берега, так как мама запрещала мне заходить далеко в воду. Как-то один из местных мальчиков сказал мне, чтобы я попробовал поплыть вдоль берега, опустив голову в воду и закрыв глаза. Я попробовал: получилось. На следующий день я мог уже проплыть таким способом метров пять-шесть, а затем стал высовывать голову из воды и продолжать плыть. Так, в пять лет я научился плавать, но все равно далеко не заплывал.
В пять лет я уже читал, и мама взяла с собой несколько детских книжек, и после обеда и сна я читал сказки и повести Пушкина, рассказы Сетона – Томсона (тут я, наверное, прихвастнул, я прочитал эти книги год-два позже). Мама же ставила на все послеобеденное время на стол в саду свою пишущую машинку и печатала переводы, которые набрала на все три месяца. К тому времени она уже зарекомендовала себя одной из лучших переводчиц химических статей с английского и немецкого языков. В издательствах, с кем она работала, ей даже давали выбирать "по вкусу" наиболее ей понравившиеся по тематике статьи. Папа приехал в середине августа, чтобы провести с нами отпуск и уехать вместе в Москву. Видимо, у него закрались подозрения, что мама покупала конину, хотя перед его приездом мама вымыла всю посуду и не оставила следов своего “преступления”. Даже я понимал, что платить за говядину было в два-три раза дороже, чем за конину, а котлеты из конины были ничуть не хуже, чем из говядины. Однако когда надо было собираться в дорогу, мама одна пошла на рынок и, уж не знаю почему, купила конину. На обратную дорогу она наготовила котлет из чистой конины, которые все-таки отличались от говяжьих и вкусом и запахом; видимо, глухота компенсировалась обонянием, и, когда на пароходе мама дала нам бутерброды с котлетами, разразился скандал, и все котлеты полетели за борт, ели мы то, что папа покупал на пристанях, в основном молочные продукты, овощи, ягоды, маринованные и соленые грибы, в которых он, понимал толк и разглядывал их очень пристально. Подъезжая к Москве, уже в Коломне случилась неприятность. На день рождения мне подарили фотоаппарат "Фотокор" и у меня оставались две кассеты. Подъезжая к Коломне, я увидел очень красивый мост через Оку. При вечернем освещении он так и просился на фотопленку. Я быстро обегал в каюту, достал фотоаппарат и побежал на корму, так как мост уже оказался позади парохода. Сделав два снимка, я пошел к себе в каюту, но был остановлен моряком в форме – помощником капитана. Он отвел меня в свою каюту и стал интересоваться кто я такой, с кем плыву и т.д.. Позвали палу и предъявили ему документ об уголовной ответственности за фотографирование стратегических объектов. Бедный папа сначала ничего не понял, но потом, когда понял, что я снял на свой детский фотоаппарат железнодорожный мост, предъявил свой документ персонального значения, извинился, что недосмотрел за мной, засветил кассеты, после чего мы с миром были отпущены. Помня тот случай, я старался даже за границей, не говоря о нашей стране, не снимать что-либо похожее на стратегический объект.
После Касимова, мы дачу в Царицыне уже больше не ездили. Следующие два или три года родители снимали дачу в Голицыне, в сорока километрах от Москвы по Белорусской железной дороге. Здесь дача стоила дешевле, чем в Царицыне, правда это был не дачный поселок, утопающий в садах, а крупный населенный пункт, но зато здесь был пруд, в котором можно было купаться, а в пяти-шести километрах был лес или скорее перелесок, в котором было очень многое земляники. 3а два или три сезона в Голицыне мне запомнились два события.
Во-первых, к нам два раза приезжали на велосипедах тетя Таня, ее муж дядя Сережа, его брат дядя Коля с женой тетей Нютой. За один день они доезжали до нас по Можайскому шоссе, а затем возвращались в Москву – а это около 100 км. Тетя Таня вышла замуж за Сергея Александровича Бернштейна. Его старший брат Николай Александрович был известным медиком и научным работником, был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Тетя Таня, получив высшее образование, работала с Николаем Александровичем. Они изучали способности спортсменов-стайеров, делали выводы и давали советы, как лучше готовиться к соревнованиям и побеждать на них. 0ни, в частности, занимались спортивной подготовкой знаменитых братьев Знаменских, рекордсменами и чемпионами СССР и мира на дистанциях в 5 и 10 км., изучали работу их сердца и дыхания.
Второе, запомнившееся мне событие, это приезд на один из моих дней рождения папиного брата дяди Васи, Василия Георгиевича. Он тогда был еще холостяком, и был страстным рыболовом и охотником, в частности был директором охотничьей мастерской, знал всех известных рыболовов и охотников и очень неплохо по тем временам зарабатывал. Дядя Вася привез мне в подарок удочку, самую современную, состоящую из трех колен. Естественно, удочка была с леской, поплавком, грузом и крючком. После обеда, а дядя Вася любил опрокинуть рюмку-другую (папа практически никогда не пил), все мы пошли на пруд. Дядя Вася надел червя и закинул удочку. Не успел поплавок встать, как все увидели поклевку и, передав мне в руки удилище, закричали: "тащи". Я дернул, и на берегу затрепыхалась довольно крупная плотва (грамм 150-200). Пока все стояли, разинув рты, рыба избавилась от крючка и начала довольно активно прыгать в сторону воды. Папа, одетый в белые брюки и белые туфли, сделал несколько попыток схватить ее, но не тут-то было – она достигла среза воды, вильнула хвостом и была такова. Папа бросился за ней, зашел по колено в воду, но, естественно, безуспешно. И тогда, весь мокрый и грязный, отправился в сопровождении мамы домой, а дядя Вася простоял ее мной на берегу часа полтора, но больше так никто и не клюнул. Это была моя первая, но, увы, не пойманная рыба. С тех пор я неравнодушен к рыбной ловле.
У тети Тани родился сын Саша – мой двоюродный брат, и они тоже начали сжимать дачу. Снимали они дачу на Сходне, на тихой улице в доме с большим участком. Им там понравилось, и они предложили моим родителям поменять Голицыно на Сходню. Съездив на разведку мама с папой нашли на той же улицу дачу с двумя комнатами и верандой и хорошим садом. Муж хозяйки был сослан за 101-й километр (тогда это было наименьшим наказанием). У нее было две взрослые дочери Валя и Леля. Единственным неудобством был их жилец, у которого беспрерывно гремела музыка, естественно, современная эстрада, и который по выходным постоянно ездил на мотоцикле или ремонтировал его.
Дача была расположена буквально в двух шагах от оврага, заросшего лесом, по которому протекала река Сходня. На другой стороне оврага была возвышенность типа холма – "Гучковка", по названию имения фабриканта Гучкова, занимавшего пять-шесть гектаров. Далее по дороге, которая вела к деревне "Новая" и Ленинградскому шоссе ранее находилась дача нашего деда Сергея Александровича Попова, которая была реквизирована после революции и где в, описываемые мною времена, размещался детский дом. На Сходне мы прожили лет восемь вплоть до сентября 1941 г. С переездом на Сходню мама пошла работать и была на даче только во время отпуска. Папа приезжал раза два в неделю – привозил продукты, а со мной жила папина сестра тетя Маня. У папы было три сестры: Елена, Мария и Анна и брат Василий, о котором я уже писал.
Насколько я помню, лет с четырех-пяти меня возили к папиным родственникам, жившим в Климентовском переулке в Замоскворечье. У них была одна довольно большая комната в коммунальной квартире, в которой жила папина мама, Мария Ивановна, баба Маня, и сестры тетя Лена и тетя Маня – обе старые девы. Баба Маня была очень больна, почти не вставала с постели и вскоре умерла. Младшая сестра отца, тетя Аня, вышла замуж, жила отдельно, у нее был сын Виталий – Таля. С ними я познакомился только после войны. В углу комнаты у стола стоял граммофон, старинный и, как оно и положено, с трубой, и при нем было несколько пластинок, которые я все время крутил пока мы были в гостях. Я слушал арии Гремина, Торреодора и Мефистофеля в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Пластинки были с большими дефектами, но музыка и голос Шаляпина запомнились мне на всю жизнь.
Так вот, на Сходню на все лето приезжала тетя Маня, в чье распоряжение я и поступал. Она была верующим человеком, но со мной никогда никаких религиозных тем не обсуждала. Она была малообразованным, но очень честным и порядочным человеком. Тетя Маня занималась хозяйством: готовила, убиралась, стирала. Её сестра, тетя Лена, приезжала только на время своего отпуска, она работала секретарем или бухгалтером с небольшим окладом, и помогала тете Мане вести хозяйство. На даче было довольно просторно, и раза три-четыре за лето на Сходню приезжали баба Лютя и дедя. Мир в нашей дачной довольно разношерстной семье нарушала только ….. кошка. Тетя Маня обожала свою небольшую серую кошку, которую звали Морькой. Дедя же, не знаю почему, терпеть не мог кошек, и кошка чувствовала неприязненное отношение к ней деди и старалась не попадаться к нему на глаза. Все-таки кошки умные животные! Тетя Маня очень любила природу и хорошо ее знала. Когда мы снимали дачу на Сходне, мне было уже лет пять-семь, и я мог ходить с тетей Маней в лес по 7-8 часов. До настоящего леса было три километра, он начинался за деревней "Новой" и простирался до реки Клязьма, на другом берегу которой было поле, превращенное после войны в аэродром Шереметьево. Начинали мы походы в мае со сбора ландышей и бутон-доров, затем отправлялись за ягодами: земляникой, малиной и черникой и потом – за грибами. У нас всюду были свои излюбленные места, которые мы посещали из года в год, и никогда не возвращались пустыми. Вот только не помню, чтобы мы собирали опята, по-видимому мы уезжали в Москву до их появления. Когда мама была в отпуске, она иногда к нам присоединялась, но, как правило, не выдерживала многочасовых и многокилометровых походов и уходила домой.