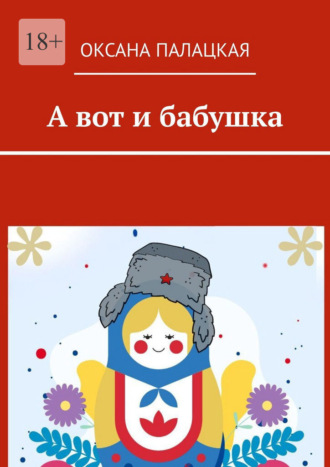
Полная версия
А вот и бабушка
Да и голова усвоила одну простую, но фундаментальную истину: если чего-то хочешь – надо работать.
Но чем точнее становились стежки, тем больше сжималось пространство ателье.
Нет, она не жаловалась. Каждый выученный урок был важен.
Человек – не платье. Ни утянуть, ни перекроить под себя.
Хотелось свободы. Хотелось размаха. Хотелось большего.
И это «большее» не заставило себя ждать…
Последний курс инженерного кораблестроительного института. Голова – набита чертежами и амбициями, карманы – идеями.
В нагрудном кармане – заветная «корочка»: партийный билет.
В те времена он открывал больше дверей, чем красный диплом.
Валерий сдавал экзамены на отлично, проекты – раньше срока. Между заседаниями, стройками коммунизма и субботниками он, словно невзначай, вывел математическую формулу. Министерство образования тут же торжественно присвоило ей его фамилию.
Сам он, конечно, не считал это чем-то особенным.
К двадцати годам он уже проводил собрания на главном заводе своего города – там, где рождались военные корабли, способные пересекать не только моря, но и чужие амбиции, раздувая чью-то пролетарскую гордость.
Заместитель директора! Звание, которое в Советском Союзе ставило тебя где-то между волшебником Изумрудного города и «ещё не министр, но уже не смертный».
Валерий обладал редким талантом наводить порядок – так, что хаос понимал свою ошибку, извинялся и молча выходил покурить.
Стоило было ему появиться – и обгрызенные ручки поспешно ныряли в пеналы, бумаги ровнялись в аккуратные стопки, а замызганные чайные кружки сбивались в стайку, надеясь проскользнуть незамеченными.
Их история началась вечером в городском танцевальном зале. Свет блуждал по натёртому мечтами паркету, а воздух был пропитан лаком для волос, пивом «Балтика» и надеждами на то, что этот вечер не придётся заносить в категорию «лучше бы я остался дома».
Наш герой сидел в стороне с товарищами —
в той самой зоне, где мужчины коротают последние минуты перед решающим боем:
выйти на танцпол или спрятаться за бутылкой и изображать экспертов по женской психологии.
Музыка гремела.
Голоса пытались её перекричать.
В итоге он не слышал вообще ничего.
Но глаз не отрывал.
От неё.
И не потому, что танцевала лучше всех.
(Хотя танцевала. И чёрт возьми, как!)
Она сидела как королева, скрестив ноги с той небрежностью, которая требует недель репетиций перед зеркалом.
Она не пыталась привлекать внимание.
Просто знала, что оно уже здесь.
И всем было ясно: у остальных нет ни единого шанса.
Она играла в эту древнюю, гипнотическую игру, которую женщины передают друг другу инстинктивно, через поколения, как фамильное серебро.
Шоу Скользящей Туфельки.
Сначала – лёгкий, ленивый сдвиг.
Потом – медленный, растянутый во времени спуск.
Коварный. Томный. Как актриса немого кино.
И вот – в следующую секунду, вопреки всем законам мироздания, этот алый любовно-криминальный объект замирал на грани гравитации, цеплялась за самый кончик пальцев, категорически отказываясь падать. Будоража сердце, как последняя нота на рояле.
Природа и законы физики смотрели на это косо и нервно стучали по мозгам.
Валерий, привыкший просчитывать подъёмную силу боевых кораблей, вдруг почувствовал себя полным идиотом.
Этот чёртов баланс просто сводил с ума.
Казалось, если лодочка упадёт – рухнет вселенское равновесие.
И он следом.
Молодой инженер был абсолютно не готов к тому, чтобы его уничтожила красная обувь незнакомки.
Он застыл, забыв про друзей, музыку и законы гидродинамики.
Это была поэзия в красном, загадка из кожи и дерзости, уравнение с тремя неизвестными, которое он не мог решить – просто потому, что мозг отключился.
Туфелька раскачивалась, как маятник Фуко, безжалостно демонстрируя всем присутствующим очевидную кривизну пространства – времени.
Это соблазнительная неурядица была способна переписать не только законы физики, но и всю его жизнь. Валерий пытался проанализировать точку опоры, просчитать момент инерции, но система уравнений вела себя как электрон в поле неопределённости Гейзенберга – решение то ли есть, то ли его нет.
Он знал, что в любой момент система могла перейти в хаотическое состояние – короткий импульс и всё разрушится.
Валерий превратился в пассивного наблюдателя. В свидетеля распада классической механики.
Туфелька упадёт, мир рухнет.
Энтропия системы неумолимо росла.
– Если не подойдёшь, кто-то сделает это за тебя, – сказал голос откуда-то сбоку, вызывая резонанс в его обмякшем теле.
Механизмы внутри, скрипя, провернулись.
Разум, доселе парализованный, сгруппировал обрывки логики: либо он, либо фазовый переход в ничто.
Музыка замедлилась, словно давая шанс всё исправить.
Большой, неповоротливый, закованный в броню сомнений, его корабль плыл к маленькому острову Алых Туфель.
В душе пульсировала левая щиколотка.
Он бросил якорь – широко и из последних сил улыбнулся, будто танцы и лавирование под ветром флирта – одно и то же.
– Погалсуем?1
Их история продолжилась, как и все истории, что начинаются с «Потанцуем» и заканчиваются «Давайте жить вместе».
Валерий жил так, как будто давно определился со всеми переменными. Он вставал рано, пил крепкий чай, доверял инженерным расчётам и не доверял людям, которые их не делают.
Она же пока писала черновики, думая, что всегда можно передумать и потом переписать начисто. Но рядом с ним даже её мечты начинали обретать форму.
Луна над Кронштадтом не возражала.Дальше всё пошло само собой…Отшумела свадьба.Наелись, наплясались, а главное, выспались!
После регистрации счастья они не стали останавливаться, наслаждаясь идиллическими пейзажами спокойного домашнего быта.
Любимая жена была неугомонна, как тасманийский дьявол. И раз уж суженый с утра и до ночи проектировал и рассчитывал, то и ей пора было научиться отличать форштевень от ахтерштевня.
Выбор пал на Инженерно-морской институт, кафедру кораблестроения.
Количество книг в доме перевалило за критическую отметку. Они появлялись повсюду – на полках, на столах, на подоконниках и даже в тех местах, которые по всем законам логики не предназначены для литературы. Чашки с остывшим чаем стояли по углам, словно одинокие буйки в открытом море, напоминая, что время, выделенное на бытовые потребности, неуклонно сокращается в пользу науки.
Она училась быстро, ей нравились расчёты, в которых была ясность и предсказуемость, – нечто противоположное её собственной природе, всегда стремящейся оставить запас для импровизации. Но с каждым годом всё меньше оставалось места для черновиков. Приходилось сразу всё писать начисто.
Пара строила не просто семью, а полногабаритное морское судно, требующее точных расчётов, крепких узлов и постоянного движения вперёд.
И вот, когда корабль их жизни уверенно плыл по волнам, объявился некий «груз на борту». Он не значился в чертежах, но вполне вписывался в законы природы и семейную конструкцию. Требовал постоянного внимания, оперативного снабжения и регулярного профконтроля.
Заявлял о своём существовании громко, требовательно и безапелляционно, напоминая о себе каждые три часа, независимо от графика работ и усталости экипажа.
Летом 1979 года Валерий, человек методичный, протестировал всё на прочность, проверил на благозвучие и, убедившись, что конструкция надёжна и соответствует всем техническим требованиям, с чувством выполненного долга огласил экипажу:
– Оксана Валерьевна Палацкая.
Луна над Кронштадтом понимающе кивнула.
Оксана
Первые месяцы после моего рождения стали для родителей масштабными полевыми учениями.
Родители импровизировали на тему, как выжить с новорождённым, не завалить диплом по кораблестроению и управлять государственным морским заводом, от которого зависела большая часть населения острова.
Мама проводила дни в идеологическом расколе сознания: одним полушарием вязла в «Комплексном математическом анализе» и «Истории КПСС» (пытка, от которой иные диссиденты бежали бы в Сибирь добровольно).
Другим: пыталась приручить стиральный агрегат «Малютку» – механический сатир с ласковым именем, но исключительно мерзким нутром, который с равной вероятностью полоскал носки и организовал локальное полноводие в ванной. Все, кто сталкивался с этой машиной, знали одно: у неё были свои взгляды на семейные порядки, и, если ей не нравилось настроение в доме, она тут же устраивала потоп.
Папа Валерий, в отличие от «Малютки», работал без поломок и без выходных.
Без суеты.
Без паники.
И без сна: чудо природы, доступное только гражданам без детей.
Моряк не плачет.
Он спал по принципу экономии топлива: на ходу, короткими отрезками, строго по необходимости. Правда, бутылочки готовил с той же математической точностью, с какой рассчитывал прочность обшивки эсминцев.
Тем временем Оксана Валерьевна Палацкая спать категорически отказывалась.
Она вообще не уставала.
Её тактические приёмы освежающе будоражили инженерные нервы родителей:
– могла притвориться уснувшей, но, едва её перекладывали в кроватку, тут же включала сирену;
– умела торговаться, уговаривая родителей походить с ней по комнате ещё пару часов;
– протестовала так громко, что соседи думали, что где-то снова взбунтовалась «Малютка».
Бодрствовать милое создание могло часами, невозмутимо изучая окружающий мир.
В пять утра, когда даже самые стойкие партработники сдавались и шли пить «чай», она с абсолютной серьёзностью разглядывала узор на обоях, проверяя их на соответствие нормам ГОСТа.
Жизнь текла между заводскими цехами, чертежами, лекциями и детскими капризами.
В те годы наша семья всё ещё обитала в коммуналке – великом советском изобретении, которое проверяло прочность человеческой психики не хуже военных учений.
Коммунальная квартира была не просто жильём, а лабораторией по изучению взаимодействия людей в стрессовых условиях.
Обычная квартира разделялась на комнаты, где каждая семья получала свой маленький кусочек личного пространства.
Всё остальное – ванная, кухня, коридоры и, конечно же, неврозы – делилось строго по-братски.
В нашей коммуналке помимо нас проживала ещё одна семья – мама, папа и мальчик моего возраста.
Сближение происходило естественно, по признаку синхронизации возраста: если ты появился на свет в одном и том же коридоре с другим человеком, он автоматически становится твоим лучшим другом.
Мы играли, ругались, мирились и снова играли.
Это было детство без великих конфликтов и без эпических драм, только вечный детский коммунизм: кто первый взял игрушку, тот и прав.
Среди политических скандалов на кухне, нерешённых вопросов по очереди в уборную и вечного противостояния «Кто спер чай?» – мы лавировали, не беспокоясь.
Детская логика не требует согласования с реальностью.
Истязательский набор дисциплин вроде «Истории КПСС», «Политической экономии социализма», «Научного коммунизма» и, конечно же, «Основ марксистско-ленинской этики», которые больше напоминали курсы по идеологической дрессировке, чем высшее образование, – всё это молотило по психике, почкам и здравому смыслу.
Советские студенты героически высиживали многочасовые лекции о победе марксистско-ленинского учения над буржуазными заблуждениями, играючи разбирали семантику «Капитала», а цитаты из текста заучивали наизусть, если на экзамене вдруг спросят, сколько раз Маркс чихнул на пятьдесят девятой странице.
Но мать выстояла!
И вышла из этого испытания не только с дипломом под мышкой, но и с железными нервами. А заодно – с чётким рефлексом: при звуках слова «марксизм» автоматически искать ближайший выход и бежать, бежать, бежать…
Диплом инженера-кораблестроителя занял своё почётное место в истории семьи – был торжественно вставлен в рамку и водружён на стену нашей коммуналки на шестом этаже.
Там, поймав единственный луч славы за всю свою карьеру, он гордо отражал солнечный свет, ослепляя каждого, кто входил, – как бы напоминая, какой ценой был добыт.
Корабль жизни уходил в открытое море.
И на этот раз уже без Маркса во сне и наяву.
Получить диплом – это был лишь первый шаг.
А дальше за штурвал брались уже другие капитаны…
Попутный ветер распределения разносил молодых специалистов по бескрайним просторам Родины: получил диплом, вдохнул, выдохнул – и вот ты уже там, где солнце появляется раз в году, а про весну читаешь только в газетах.
Там ты понимал, что тепло твоих грёз годится разве что для чугунных батарей Заполярного.
Хотел строить корабли – будешь чинить колхозные доильные аппараты.
Мечтал о конструкторском бюро – поздравляем, теперь ты ведущий специалист по расчёту аэродинамики сельскохозяйственных пернатых.
Теоретически – на благо государства. Практически – лотерея без выигрыша.
К счастью, красный партбилет отца – та самая заветная корочка, открывающая больше дверей, чем папская рекомендация, – сотворил чудо.
Пока его однокурсники разъезжались по бескрайним степям изучать повадки местных куриц при боковом ветре, наша семья осталась на острове.
Отец работал много, говорил мало и знал, что в хоре строителей коммунизма главное – не выделяться. Потому что где-то там, на верхних этажах, всегда сидел кто-то с абсолютным слухом и не менее абсолютной памятью.
А потом подошла очередь на квартиру.
В те далёкие времена получить государственное жильё было сродни олимпийскому золоту: требовало лет ожидания, массу терпения, километров бумажек и желательно парочку святых покровителей на небесах.
Итак, после тонны выкуренных сигарет, заметно пожелтевших усов отца и его полной самоотдачи на заводе, фамилия нашей семьи оказалась в числе «достойных».
Мы стали счастливыми обладателями квадратных метров социалистического рая: две комнаты, свой санузел и – конечно! – отдельная кухня.
А перемены валились, как снег в октябре на наши северные дороги, накапливаясь слоями в один большой сугроб новшеств.
К тому времени я уже приближалась к трагической отметке: десять лет.
Это когда ты вдруг перестаёшь танцевать на автобусных остановках и начинаешь задумчиво смотреть в серое небо, размышляя о смысле жизни.
И о долгой зиме.
Бабушка Лида, святая покровительница холода и шерстяного террора, появлялась в нашей жизни во время каникул. Её прибытие всегда сопровождалось звонким перестуком спиц и стойким ароматом сушёных грибов.
Свитера прародительницы были не просто одеждой. И не какие-нибудь там уютные кашемировые облачка из рекламы про семейные ценности и кондиционер для белья.
В её рукоделиях можно было пережить ледниковый период, атомную зиму и дойти пешком до Заполярья.
Они не просто кололись. Они пожирали кожу, как раззадорившиеся гремлины после мытья. Надеть их означало пройти испытание болью – миллиметр за миллиметром, пока первый слой эпидермиса не будет безвозвратно принесён в жертву.
Пережить зиму означало пережить свитера бабушки Лиды.
С годами у меня развилась такая аллергия на шерсть, что каждую осень семья собиралась на военный совет: во что бы меня одеть, чтобы я не замёрзла, но и не ушла навсегда из дома.
Хлопок и ситец, доступный в советских магазинах, был надёжным билетом в царство обмороженных частей тела.
А синтетика – этот недосягаемый мираж технологического прогресса – была так же реальна в то время, как и летающие автомобили в мечтах Брежнева.
Лидия была не только исходником дерматитов и вязаных чудес – она была настоящей легендой выживания.
Каждый её приезд поездом был предвестником перемен: из-под её рук выпадали мешки с ягодным вареньем, банки с маринованными огурцами и даже грибы, свежие, как утренний туман над лесной опушкой.
Эти запасы для молодой семьи, работали как оберег – обещание, что даже злая зима с её голодом и ледяной стужей не сломит наш боевой дух.
Иногда, чтобы дать передышку родителям, моя прагматичная родственница брала меня с собой в свои «отпуска».
В её словаре это слово вовсе не означало валяться на пляже: это были утренние подъёмы с первыми лучами солнца и променады по узким тропинкам полярных сопок. В этом калейдоскопе бескомпромиссного юмора и суровой снежной романтики каждое утро с бабушкой превращалось в подготовку молодого бойца, где холодная вода и будильник в предрассветном тумане становились испытанием, закаляющим характер.
Шагая, как настоящий полководец, она вела меня вперёд, а я, озябшая до костей, изо всех сил пыталась угнаться, молясь, когда-нибудь снова прижаться к обогревателю. Иногда мне казалось, что меня занесло в сумасшедшее реалити-шоу, где героев чествуют надписями типа: «Была юная звезда, но замёрзла на всегда».
Её распорядок не оставлял места для праздного детского ничегонеделания. Утром – марш-бросок в лес, вооружившись вёдрами и ножами. Вечером – смена на её работе, где меня ждала морозная вахта в крошечной будке инспектора.
Деревянный ящик, где воздух звенел от холода, а единственным источником тепла было собственное дыхание, которое приходилось задерживать, чтобы не заморозить лёгкие. Ночь, ничем не отличавшаяся от дня, наполнялась жалобным воем товарняков и звоном металла.
Закутанная в бесконечные слои одежды и в свои советские мунбуты-валенки, я подолгу разглядывала облачка собственного дыхания, размышляя, хватит ли у мороза наглости после пальцев на ногах дотянуться и до моего нутра.
Бабушка была настоящим бойцом передовой. Ночью она шагала по заледеневшим рельсам, ломая лёд под ногами, а у меня в голове одна за другой рассыпались все теории о так называемом «слабом поле».
По версии просвещённых умов военно-морского контингента нашего острова, женщина была создана для благородного, но строго ограниченного перечня свершений: чинно стоять у плиты, ловко орудовать иголкой, вести хозяйство с кроткой улыбкой, а главное – служить надёжной, неприхотливой опорой, как стул в кабинете парторга.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Галсовать – морской термин: двигаться зигзагом навстречу ветру, меняя направление паруса (галс) для продвижения вперёд при встречном ветре.



