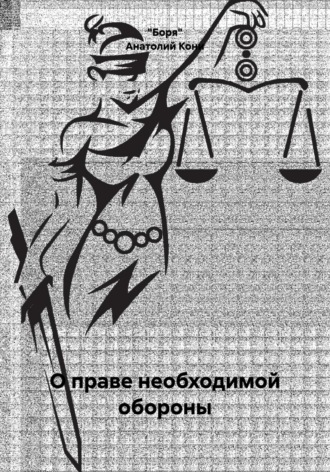
Полная версия
О праве необходимой обороны

Анатолий Кони, "Боря"
О праве необходимой обороны
Перевёл и упорядочил текст 1869 года «Боря»
Февраль 2025 год
От автора перевода.
Я убеждён, что ни на йоту не преувеличу, если назову имя Анатолия Фёдоровича Кони первым в списке непревзойдённых гениев юридической мысли в отечественном праве. Уверен, что и многие образованные люди, знакомые с миром юридической науки не понаслышке, также прекрасно знакомы с глубокомысленными, широкими, исследовательскими трудами в области права, произведёнными на свет силой светлого мыслительного таланта Анатолия Федоровича и вошедшие в мир юридической литературы из-под его могучей и умелой руки. Не смотря на то, что с трагического момента прискорбной кончины выдающегося и воистину великого человека, государственного и общественного деятеля, талантливого юриста и адвоката, титана слова и дела, прошло огромное количество долгих лет, его работы и труды и по сей день не потеряли своей исторической научной ценности и действительной, важной актуальности, что в свою очередь даёт право потомкам называть их общим человеческим достоянием и сакральным наследием.
В представленном на публику трактате «О праве необходимой обороны» собраны воистину драгоценные исторические материалы и зафиксированы действительные факты зарождения, движения и развития этого, важного абсолютно для каждого человека, правового института самообороны в гражданском обществе нашей многонациональной страны или мира вообще. Многосторонне – широко и объёмно исследована и раскрыта глубокая смысловая суть понятия самообороны с включёнными в него закономерными, благоразумными предостережениями, ограничениями и дозволениями со стороны общественной государственной власти.
Нет абсолютно никакой надобности более детально раскрывать читателю содержание данного трактата – рассуждения, ибо широко известное в юридических кругах имя автора говорит всё само за себя.
«Боря»
О праве необходимой обороны.
Vim vi defendere omnes leges omnique
jure permittunt.
Я хочу защищать все законы и все
дозволенные права.(лат.)
I.Теория права необходимой обороны.
Человеку присуще чувство самосохранения. Оно присуще ему и как существу нравственно-разумному, и как высшему созданию животного царства. Это чувство вложено природой в человека так глубоко, что не оставляет его почти никогда; человек стремится к самосохранению, с одной стороны, инстинктивно, а с другой – сознавая своё право на существование. В силу стремления к самосохранению человек старается избежать опасности и принимает все меры к её отвращению; – он имеет на это право и притом право, которое должно быть рассматриваемо как прирождённое (Urrecht – исконное право (нем.) или естественное – прим. автора перевода). Сознавая своё право на существование, человек ограждает это право от всякого чуждого посягательства, от всякого неправа. Но очевидно, что действия человека в этой сфере не могут быть безграничны, и ограничения их лежит уже в самом существовании общества, государства. Будем ли мы безусловно отвергать, или согласно с Руссо, будем принимать теорию общественного договора, – всё-таки увидим одно явление, присущее государству. Это явление состоит в том, что государственная власть сначала ещё слаба, а личность не подчиняется её определениям и стремится войти в сферу совершенно свободных действий, ничем и никем не стесняемых, необусловливаемых и неограничиваемых.
Но государство мало-помалу крепнет, а личность, как элемент разлагающий, слабеет. Соответственно усилению государств образуются известные органы, и к ним отходят те функции, которые прежде относились к деятельности каждого отдельного человека. Круг действий каждого отдельного человека делается теснее, ему не нужно уже быть одновременно и воином, и судьёй, и хозяином, и.т.п. Из свободного человека, который смутно сознаёт своё jus и не хочет знать никакого lex, делается гражданин, имеющий твёрдо определённые законом права и соответственно им обязанности. Место безграничного произвола занимает гражданская свобода.
В первобытном состоянии общества, когда оно ещё не выработалось в правильно организованное современное государство, сознание о праве не имело в себе ничего объективного. Всякий руководствовался своими личными, субъективными воззрениями на право и считал ими то, что ему, в данном случае, заблагорассудилось считать за право. С другой стороны, всякий и защищал своё право собственными силами и средствами. Очевидно, что здесь господствовала сила, только сильный мог защититься как следует, и только право кулачное признавалось всеми безусловно. Слабому обиженному приходилось или покориться, или, собираясь с силами, ждать удобной минуты, и дождавшись её, – мстить: таким образом, в обществе, не окрепшем ещё в государственные формы, преобладающими средствами восстановления нарушенного права являются самосуд и месть. Всякий обиженный, eo ipso ( вследствие этого, тем самым – прим. автора перевода), является и судьёй и исполнителем приговора. Но при таком преобладании самосуда, невозможен никакой гражданский порядок. Поэтому, по мере возникновения государства, значение самосуда умаляется. Государство одно только имеет право и обязанность творить суд и расправу над гражданами и исключать в этом отношении всякую конкуренцию. Оно ограждает граждан, с одной стороны предупреждая преступления посредством уничтожения их в самом зачатке, а с другой стороны оно карает за совершённые. Какого бы взгляда ни придерживалась теория на уголовное наказание, всё-таки оно государство и только оно имеет право наказывать, только оно получает право устрашать, или направлять, или предупреждать преступника; только оно может беспристрастно и непредвзято назначить наказание по теории справедливости.
Таким образом закон запрещает всякое самоуправство. «Никому до суда силы над противником не деять, а кто силу доспеть, ино тымъ его и обвинить» говорит Судная Новгородская грамота. Такое отрницание достигается путём трудной борьбы верховной власти и закона со стремлением частных лиц к самоуправству. Борьба эта и подчинение субъективной воли частных лиц определениям закона занимает одно из самых видных мест в истории государства.
Но несмотря на то, что из этой борьбы закон выходит всегда победителем, есть такие случаи, в которых само законодательство должно допустить некоторое самоуправство. Это должно быть допущено именно из уважения к праву, которое в противном случае могло бы быть часто и совершенно безнаказанно нарушено. Это случаи так называемой необходимой обороны.
Общественная власть, заметив где-нибудь угрожающую частному лицу опасность, должна стремиться предотвратить её и защитить нарушаемое право. Но жизнь так разнообразна, а сфера действий общественной власти так обширна, что может случиться, да и довольно часто случается, что власть не может поспеть на помощь, на защиту частного лица. А между тем это лицо подвергается нападению, причём опасность может угрожать не только его имуществу, свободе, чести, здоровью, но даже и самой жизни. Очевидно, что запретить здесь человеку защищаться своими личными средствами и силами нельзя. Это значило бы отдать его в руки нападающего, и, запрещая одной стороне самоуправство, поощрять к нему другую сторону. Наконец и право, которое, при отсутствии помощи общественной власти, могло бы быть нарушено всяким, обратилось бы в jus nullum. ( никакое право (лат), ничтожность – прим. автора перевода)
Следовательно, гражданин должен иметь право, в известных случаях, прибегать к собственным силам. Но гражданин не всегда может иметь достаточно силы для защиты своего права, и оно всё-таки будет нарушено. Здесь, очевидно, надо допустить подаяние (оказание) помощи лицу, защищающему своё право, со стороны других, посторонних лиц. Таким образом человек признаётся в известных случаях находящимся в состоянии необходимой обороны; гражданин получает право необходимой обороны. (moderamen, v. moderatio inculpate tutelae (лат) – с соблюдением всех мер предосторожности – прим. автора перевода). Пользуясь этим правом, гражданин не подлежит вменению.
Первое понятие о необходимой обороне, как таком состоянии, которое служит основанием невменения, вытекают из самого названия её. Это во-первых оборона, следовательно предполагает с одной стороны нарушение прав другой стороны, вызывающее на защиту. Во вторых эта оборона необходимая, другими словами – вынужденная, то есть такая, где человек поставлен в необходимость защищать своё право сам, – следовательно предполагает отсутствие защиты со стороны общественной власти.
Необходимая оборона будет существовать вечно потому что основана на законе необходимости, а этот закон по самому существу своему вечен. Поэтому понятие о необходимой обороне существует изстари и никогда не перестанет существовать; это «non scripta, sed nata lex. Cicero pro Milone», закон, вытекающий непосредственно из человеческой природы. – (не писанный а врождённый или естественный закон. По всей видимости, латинские слова взяты из речи написанной Цицероном в 52 году до нашей эры от имени своего друга Тита Анния Милона обвинённого в убийстве своего политического врага. – прим. автора перевода.) Право необходимой обороны встречается и признаётся ещё в глубокой древности, в Египте, потом в Афинах и притом в довольно большом объёме. Римское право не считает даже нужным слишком распространяться в определениях права необходимой обороны: оно признаётся совершенно естественным, вытекающим из самой природы человека. И учёных не мало занимал вопрос о праве необходимой обороны: ему посвящено несколько больших монографий – Гротенауэр, Гейер, Лефита, Бернер и другие. Но равномерно признавая это право, все юристы различно толкуют об его происхождении и основании. Одни, как например Ортолан, говорят что общественная власть почти всегда прекращает личные столкновения между людьми. Но тем не менее она не всегда может придти на помощь, и здесь человек может прибегнуть к самозащищению. Это самозащищение состоит в отражении несправедливого нападения и вытекает из права самосохранения. Иначе смотрит на это Велькер. Он придерживается теории общественного договора.(contract cocial) Известно, что по этой теории граждане вступают в договор (Staatsvertrag), по которому они отдают свою свободу и право самосуда в руки государства и взамен этого получают гражданскую свободу и обязательство со стороны государственной власти – защищать их. Таким образом гражданин, как член общества, становится под покровительство и защиту государственной власти. Эта власть изрекает: Vim fieri veto…(Я запрещаю применять насилие – прим. автора перевода) Но гражданин отбрасывает свою защиту собственными силами только до тех пор и на столько, до которых пор и насколько он может положиться на защиту власти. Там, где власть не может защитить гражданина, он может употребить в дело свои личные силы. Здесь уже на место изречения vim fieri veto становится другое adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere….(Против опасности естественный разум позволяет защищаться.(лат) – прим.автора перевода). Некоторые учёные усвоили себе третий взгляд. Они говорят: «право оправдывается всегда разумом, – поэтому всякое неправо противоречит разуму. Оно, следовательно, неразумно и как неразумное отрицается разумом. Оно должно подчиняться разуму и уступать. Всякая неправая попытка абсолютно неразумна (противуразумна), и поэтому оборона против неё необходима, предписывается разумом.Отсюда следует: а) необходимая оборона нисколько не преступна, b) она справедлива и c) вполне разумна, а по всему этому составляет даже долг каждого гражданина, как абсолютное уничтожение неправа». Существует и ещё несколько мнений. Чрезвычайное разнообразие мнений о происхождении и основании права необходимой обороны можно объяснить словами Цёпфля, который говорит, что исследование вопроса о праве необходимой обороны есть исследование такого права, которое «подобно неиссякаемой и неистощимой руде обещает всякому изыскателю постоянно новую добычу». Притом причина различия воззрений всегда кроется в различии источников, откуда черпаются главные основания для разрешения возникшего вопроса.
Ни с одним из вышеприведённых мнений нельзя вполне согласиться. Особенно односторонне последнее мнение. Во-первых, необходимая оборона совсем не долг человека, а его право. Во-вторых, к необходимой обороне никто не принуждён, как к необходимой и неизбежной, – она только дозволена. Притом, если необходимая оборона составляет абсолютное уничтожение всякого неправа, то следуя этой теории, необходимо нападать на нарушителя моего права, когда он уже отказался от своего нарушения. Так Бернер, в опровержение этой теории, приводит пример вора, который бросил украденную вещь и сам ударился в бегство. Этого вора надо преследовать и убить владельцу брошенной вещи; здесь будет необходимая оборона, ибо иначе вор может уйти безнаказанным. Но очевидно, что это будет уже не необходимая оборона, а самосуд, запрещённый законом. В-третьих, если в необходимой обороне лежит полное отрицание неправа, то субъект, против которого была употреблена эта оборона, не должен быть более наказываем.
Таким образом, если на кого-нибудь нападает разбойник, но будет отражён, обезоружен и отдан в руки правосудия, то он должен быть освобождён от наказания, ибо уже в самом факте необходимой обороны заключается полное отрицание его вины, его неправды.
По мнению Бернера, основанием права необходимой обороны служит только то, что неправо признаётся ничтожным, а право, напротив, существенным. Начала, на которых основано право необходимой обороны, выясняются тогда только, когда вглядываемся в происхождение этого права. Что такое необходимая оборона? Это есть состояние самоуправства. По-видимому, существование необходимой обороны в этом смысле противоречит судебному началу и они оба не могут существовать совместно. Казалось бы, что существование и допущение права необходимой обороны отрицает бытие государственной власти, уничтожающей самосуд. Но в самом деле это начало показывает на существование и господство государственной идеи, ибо сама необходимая оборона является как нечто дозволенное и только как дозволенное имеет место. Притом она дозволяется не безгранично, а в размере определённым самим государством. Самосудом не может считаться то, что получает свои основные определения от законодательства. Самосуд, как форма совершенно не гражданская, не может существовать в государстве, кроме случаев крайней необходимости, да и тут терпится только как необходимое зло. Вообще государство заставляет человека отказаться от самосуда. С другой стороны, оно берёт на себя обязанность защищать граждан от всяких нападений. Для этой защиты и охраны служат государству его органы. Но самый судный элемент, как всякое отвлечённое начало, получает своё бытие в мире внешних явлений в виде известных учреждений, и представителями этих учреждений являются люди. Вместе с этим судный элемент получает, или лучше сказать, заимствует субъективный характер человеческой природы – её ограниченность. Вследствие этого могут быть такие случаи, когда общественная власть не может придти на помощь гражданину. Поэтому общественная власть, признавая над собой законы пространства и времени, должна по необходимости изъять из своего ведомства некоторые случаи. Самим фатом изъятия она предоставляет их частной расправе. Таким образом необходимая оборона имеет характер неизбежного результата установления судебной власти.
Немецкий учёный Гейб говорит: «покуда господствует кровная месть – нет понятия необходимой обороны. Чем более исчезает кровная месть и заменяется судом, тем более и более выясняются понятия о необходимой обороне.» В этом допущении необходимой обороны заключается удовлетворение идеи справедливости. Отнять у человека защиту в тех случаях, когда общество её дать не может, значило бы совершенно уничтожать объективное равенство между людьми. Один сделался бы полноценным владыкой, а другой беззащитною жертвой. Вот в чём заключается основание допущения необходимой обороны. Даже, если бы предположить, что необходимая оборона запрещена, то можно утвердительно сказать, что это не повело бы ни к чему. Человек так дорожит жизнью и здоровьем, что для их защиты решится на самые крайние меры и средства.
Некоторые писатели, например Цёпфль, требуют, чтобы противозаконное действие, совершаемое в состоянии необходимой обороны, считалось только извинительным. Но это не верно. Сила морального принуждения здесь часто так велика, что отнимает у воли всякую свободу, а у действия характер вменяемости. Ответственность лежит на лице нападавшего, который и есть главный виновник всего случившегося. Притом, обороняющийся самим законом управомочен к противозаконным последствиям своего действия.
Необходимую оборону надо отличать от сродных (схожих – прим. автора перевода) понятий. Главнейшее отличие в этом отношении есть отличие необходимой обороны от действий только извинительных (excusables, – хотя во французском праве некоторые виды необходимой обороны считаются только excusables – по Ортолану). Извинительное деяние хотя часто и не вменяется, но оно всё-таки всегда предполагает какую-нибудь погрешность; напротив, необходимая оборона никакой погрешности не полагает. Извинительное деяние, (excuse происходит от excusare, противоположно ad-cusare. Извиняться, не извиняться – прим. автора перевода.) вообще разделяется на абсолютное извинительное деяние (excuse absolutoire) и на смягчающее извинительное деяние (excuse attenuante). Я говорю только о первом виде извинительных деяний. Известно, что невменение происходит или от того, что субъект преступления не соединяет в себе, в момент совершения преступления, необходимых условий вменяемости (таковы: принуждение, – здесь воля не свободна; – безумие, где является отсутствие свободно определяющейся воли и.т.д.); или же невольно происходит оттого, что субъект имел право произвести незаконное действие (это случай необходимой обороны в особенности). В извинительном деянии нет ничего подобного; здесь а) действие может быть всегда вменяемое и b) субъект признаётся виновным судьёй и присяжными, но действие ему извиняется. Извинительно оно потому, что закон по особым, исключительным соображениям повелевает оставлять совершившего такое действие без наказания. Такими извинительными действиями особенно богато французское законодательство.
Важно также отличие необходимой обороны от состояния принуждения. Принуждение может быть физическое и моральное; в обоих случаях, оно, для невменяемости деяния, должно быть так сильно, чтобы совершенно подавлять свободу воли действующего, про которую в этом случае можно сказать: non agit sed agitur. Здесь особенно важно принуждение психологическое, называемое moe vis compulsive. Это принуждение состоит в угрозе неминуемым, неотвратимым, непосредственным и настоящим злом, которое до такой степени тяготеет над человеком, что заставляет его совершить требуемое злое деяние. Очевидно, здесь предстоит обширное поле для соображения судьи, который должен взвесить соотношение между принуждением и нанесённым вредом, то есть взвесить в особенности
1) тяжесть угрозы, 2) тяжесть причинённого зла и 3) ту духовную связь, которая существует между субъектом преступления и лицом, которому угрожает опасность. Главное отличие действия под влиянием принуждения от необходимой обороны то, что 1) субъект соединяет в себе необходимых условий вменяемости и 2) он не имеет права наносить вред, к которому его принуждают. В необходимой обороне, он, напротив, имеет право употреблять все меры для своей защиты. Впрочем понятие о моральном насилии, о психическом принуждении привходит и в понятие о необходимой обороне, именно тогда, когда говорится о превышении необходимой обороны (Nothwehrexcess). Об этом придётся ещё говорить подробно. Вообще действие под влиянием принуждения строго отличается от moderamen inculpatae tuttelae тем, что в первом случае человек сознаёт своё неправо, но по необходимости подчиняется насилию; во втором же случае он действует с полным сознанием своего права. Таково вообще отличие права необходимой обороны от деяний извинительных и от состояния принуждения.
Особенно важно отличие необходимой обороны от состояния крайней нужды. Состояние крайней нужды является при столкновении, коллизии прав, приемущественно личных с имущественными. Главным образом, говорит Лефита, под правом крайней нужды (Nothrecht) надо подразумевать право сделать вторжение в чужое право собственности, для поддержания своей и чьей-нибудь чужой жизни. Осуществление этого права может быть произведено или в виде присвоения (например кража с голоду), или в виде повреждения, порчи чужого добра (повреждения плотины или стены и.т.д.) Оправдание этого права сделано Гегелем. Он говорит: «человеческое существование, в крайней опасности и при столкновении (коллизии) с собственностью другого человека, имеет право крайней необходимости (nicht als Billigkeit, sondern als Recht – не как справедливость а как право – прим. автора перевода). При этом на одной стороне замечается бесконечный вред существованию, и вследствие того, полнейшая бесправность, – а на другой стороне ограниченный вред, при котором и право и правоспособность числятся за обиженным». И при столкновении личности с личностью право крайней нужды основывается на том, что здесь высшее право подчиняет себе низшее, большее подчиняет меньшее. Здесь принимается в расчёт не только качество прав, но и их количество. Так, при столкновении права на жизнь 5-ти человек с правом на жизнь одного человека, как это бывает при кораблекрушениях, страшном голоде и.т.п, все права по своему качеству совершенно равны, все люди имеют совершенно одинаковое право на жизнь; но сумма пяти таких прав более одного, и это одно уступает. Некоторые говорят, что право крайней нужды тем отличается от права необходимой обороны, что здесь угрожает бедствие жизни, а там праву вообще. Но едва ли можно согласиться с этим. Пусть, например, горит дом, – для предохранения ряда последующих домов, дом, ближайший к горящему и находящийся под ветром, сламывается. Очевидно, что дело идёт о спасении имущества, домов, следовательно бедствие угрожает не жизни. Если не признавать жизнь правом, и в то же время говорить, что необходимая оборона есть отражение нападений нападений на право, то должно разрушиться всякое понятие о необходимой обороне, ибо из него исключится главный случай необходимой обороны, нападение на жизнь. Другие делают более существенное различие, говоря, что в необходимой обороне является преобладающим правовой элемент (следовательно будет Rechtsnoth), а в крайней нужде – элемент естественный (Naturnoth). Другими словами: если праву угрожают силы природы, то является состояние крайней нужды; если же праву угрожает мыслящее существо, то является право необходимой обороны. Но и это определение не довольно твёрдо констатировано и даёт повод к опровержениям и спорам. Гораздо точнее и вернее определение Аббега, который говорит, что главное различие между правом необходимой обороны и правом крайней нужды следующее: в необходимой обороне праву противостоит неправо, – в крайней нужде праву противостоит, другое, большее право. С этим вполне согласен и Бернер. Таково главное различие необходимой обороны от крайней нужды:
Необходимая оборона.
Состояние крайней нужды.
1. Право против неправа.
1. Право против права.
2. Право подвергшегося нападению против неправа нападающего.
2. Высшее право против низшего права.
Выяснив, по возможности, понятие о необходимой обороне в среде сродных ему понятий, можно приступить, во-первых, к точному определению права необходимой обороны, и во-вторых к разбору необходимых условий этого права.
Определение права необходимой обороны.
Из самых общих выражений, которыми обрисовывается первоначальное понятие о необходимой обороне, вытекает и более точное определение. Необходимая оборона состоит в отражении нападения; нападение это должно быть несправедливое, ибо здесь право противополагается неправу. Это есть употребление личных сил гражданина на защиту какого-нибудь права. Но употребление личных сил может быть допущено только при отсутствии помощи со стороны общественной власти. В этом случае человек вынужден сам себя защищать. Отсюда видно, что необходимая оборона есть вынужденная защита против несправедливого нападения. Большая часть определений необходимой обороны сходна между собою в общих чертах, но отличаются большей или меньшей подробностью. Обыкновенно в это определение стараются уместить все условия необходимой обороны, даже и такие, которые сами собою разумеются. Для примера я сопоставлю несколько определений;
Лефита: «Необходимая оборона есть право употребить, в случае нужды, самозащищение, соединенное с нарушением права нападающего».



