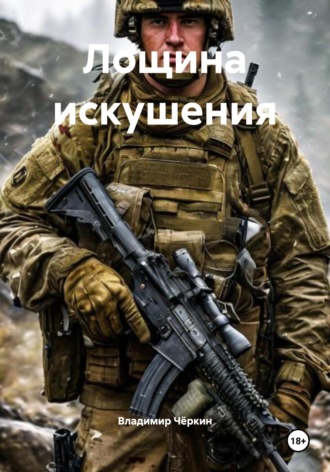
Полная версия
Лощина искушения

Владимир Чёркин
Лощина искушения
Машина с открытым верхом шла по дороге, которая пролегала посреди поля, усыпанная камнями-голышами, словно бахча белой тыквы, которая как будто была вдавлена наполовину в землю. В ней сидело четверо – трое солдат и лейтенант. Бабахнул выстрел. Шофёр неожиданно затормозил – все плюхнулись вперёд.
– Братцы! Товарищи! – Из недалёкой виноградной рощи через поле к ним бежал, прихрамывая, человек. За ним метров за сто бежали двое, один с ружьём.
– Ну-ка! – встал лейтенант и пустил очередь из автомата вверх.
Двое преследователей круто развернулись и побежали назад. Подбежавший к ним человек, плача и смеясь, со слезами повторял:
– Товарищи! Товарищи… – смотрел, словно не веря. – Свои…
– Ты чей? – спросил лейтенант.
– Абдулы хромого человек.
Все засмеялись.
– Видим, что человек. Но Абдулу хромого не знаем.
– Убежал я от них, – забормотал он, – возьмите меня с собой. – И стал на подножку.
– Куда мы тебя возьмём? У нас подразделенье.
– А куда мне?! Три года в рабстве был. Несколько раз бежал, ловили, били, последний раз жилу на ноге подпортили, чтоб не убежал, а я утёк. Решил к вам податься. А так, если поймают, – убьют.
– Эй, русские, мы вас не тронем, верните нам пастуха! – донеслось из рощи.
– Товарищи! Товарищи! – подбежавший к ним обежал машину и, белея лицом, трясся. – Я русский, русский…
– Видим, что не кавказец.
Он посмотрел на солдат. Они снова засмеялись. У человека брызнули слёзы, он затараторил:
– Куда же мне теперь деваться?
– Тебя как зовут-то? – спросил лейтенант.
– Сейчас вспомню, – наморщил он лоб. – Николай, Николай Хохлов, – ответил он. – Что, сволочи, сделали, имя заставили забыть! Только и слышал: эй, люсский, иди туда, подай то, паси овец, коз! Жил в горах. Да мало ли что было… А если что, грозились убить, – трясся от страха он.
– Гляди – удирают, – сказал лейтенант.
Они все повернулись в ту сторону, куда он глядел. Было видно, как от них бежали, прячась меж валунами, в сторону гор двое.
– Может, возьмём их?
– Ой, не надо. А то Абдула рассердится, – испугался Николай, солдаты
захохотали.
– Крепко же тебя Абдула напугал! – сказал лейтенант. – Трогай! – приказал он водителю.
Машина поехала, а Николай продолжал испуганно оглядываться назад, опасаясь, что преследователи догонят его.
В подразделение они приехали через несколько часов. Не считая тех нескольких минут, когда они останавливались, лейтенант говорил:
– Николай, нельзя тебе, гражданскому, среди солдат…
Тот трясся, с испугом оглядываясь кругом, и говорил:
– Куда же я? Ведь поймают – к Абдуле отправят.
– Действительно, куда же он? – заступились солдаты. – Человек такого натерпелся, а мы его снова им отдадим? Смотри, он белый становится от страха, и трясёт его, как в лихорадке, – говорил сержант.
– Не положено в расположении боевой части гражданским…
– Ладно, через три дня машина приедет, отправим его во Владикавказ, – согласился командир.
А на следующий день сержант принёс в пакете картошку и полтушки фазана. Поставил на тумбочку. Румяное и на срезе белое волокнистое мясо, всё в зелёных канапушках мелко порезанной зелени. Лейтенант, сидя на койке, прикрыл глаза, потянул носом:
– У-у-у-ух, откуда такое? Министр обороны такой паёк стал выделять?
– Малый-то разбитной. В лесу с нашими подбил камнем фазана. Я полтушки – в общий котёл, а это вам велел пожарить.
Достал он из подмышки свёрток, в котором был хлеб и бутылка чачи. Открыл тумбочку, вынул из неё нож и два стакана.
– Прямо не человек, а сокровище.
– Ты, это, не больно-то рот разевай. Как машина будет – сразу в часть.
– Как прикажешь.
– И прикажу. Боевое подразделение, а тут гражданские фазанов ловят.
– Давай тяпнем и поедим, – присел старшина к столу.
Выпили, закусывая. Старшина объяснял:
– Ты бери белое мясо, в ножке-то оно красное жестковатое.
– Вкусно.
Налил ещё в стаканы. Подняли, чокнулись.
– Как приедет машина, отправим его, – сказал старшина.
– Посмотрим, – сверкая синью глаз, блестевших от выпитой водки, смягчился лейтенант. – Ты на всякий случай дыру найди, куда его запрятать, если проверка нагрянет. Министр не обидится, что я нарушил приказ. А обидится, скажу ему: корми лучше. Понял?
– Понял!
К спасённому относились по-всякому: одни равнодушны были, другие презирали, шептали «бич», а он работал, видно было, что человек неприхотлив. Клал из камня и глины дувала вокруг так называемых
казарм, где днём было жарко, а ночью холодно. Помогал на кухне и не
обижался, если повар говорил: «Отведай кашки первый». И предлагал миску с кашей. «Не пересолил?» Ел кашу и отвечал на вопрос: «Немножко надо водички в котёл долить».
Подметал он участок в расположении части. Мыл посуду, котлы, черпак, колол дрова и потихоньку приживался.
А тут приказ командующего округа: не есть поспевающий инжир и тутовник в связи с увеличением числа болеющих дизентерией. Лейтенант строго наказал двух непослушных солдат – посадил их в узилище. Так называл он подвал, где продукты хранились. И ждал машины из части, чтоб отправить их на гауптвахту. Поймал он их потому, что они не знали, как правильно есть плод смоковницы. Ели они инжир вопреки приказу, срывали с дерева и давили губами жёлтый плод с белыми пшёнными семенами внутри. Губы опухали так, словно их ужалила пчела. А вечером, как на грех, лейтенант сам проверял взвод. Подошёл к солдату и, дыша перегаром, спросил:
– Ел инжир?
– Нет.
В гневе глядя на его распухшие губы:
– Три наряда вне очереди!
Николай научил солдат есть смоковницу правильно. Вечером показал: широко раскрыв рот, он кинул туда плод. Сказал «ам» – и раздавил его языком, закрыв рот. Солдаты ели, как учил он. На построении офицер присматривался к ним, но видел спокойные, а порой ухмыляющиеся рожи, понимал, что едят, трудно выдержать, чтоб не съесть этот сладчайший медовый плод. Но успокаивал себя в душе: приказ действует, что же ещё надо?
Стал поспевать тутовник, и опять двое заработали по три наряда вне очереди. Хоть и отрицали, что ели тутовник, но во рту сине, словно чернила пили. Стал варить повар из тутовника компот – пресновато, посредственного вкуса, но компот.
Тут пришёл приказ не есть миндаль – были случаи отравления им. И снова двое попались при проверке – получили по три наряда вне очереди. Хоть и утверждали, что не ели, но запах миндаля изо рта выдал их. И тут Коля солдат выручил: стал давать им траву, одному ему ведомую, запах отбивающую.
Все полюбили Николая и за то, что ловил он и зайцев и фазанов. Давали ему сигареты, обули, одели в полевое солдатское. И теплело у него на сердце от простой заботы людей о нём.
Сержант Костюк «кирзу тёр» не за страх, а за совесть. Отделение у него было лучшим. Воспитанный и начитанный, имеющий среднее образование с отличием, он, как говорил, не терял своё достоинство. Командира
взвода не любил за его пьянство. На построении, проходя шеренги, лейтенант встречался взглядом с сержантом, замечал плохо скрытое презрение к себе. Дёргался опухшим лицом. Взрывался, шумел: «Как надо смотреть на командира?!» Тот вытягивался и отвечал. «Надо есть глазами начальство!» – отчётливо говорил он, делая угодливое выражение лица. Смотрел в глаза своему командиру, а на лице еле заметная усмешка, Лейтенант который раз после смотра бурчал, чтоб служба была. Уходил к себе в домик и, принимая за столом очередную рюмку, говорил другому сержанту:
– Я этому Костюку рога сломаю, ишь, моду взял – презрительно на меня смотреть.
– Не прав он, товарищ лейтенант.
– А ты откуда знаешь, прав он или не прав?! – выпив, оценивал себя трезво.
У пьяного что на уме, то на языке. Был объективен и самокритичен. Бормотал: «Прав он… Какой я, к чёрту, командир? Пьяница, и всё. А он у нас один во всей армии командир».
– Ты чего, чего улыбаешься? Скажи мне, почему у него в отделении стволы блестят, а в других нет?
– Так ведь чистят все.
– Все. Все чистят! – свирепел лейтенант. – И смазывают. И у него чистят и смазывают, а стволы у одного его отделения блестят. Почему? До… чистят. Пусть и в других чистят. Смотри у меня!
– Я и так смотрю, – бубнил сержант. – Можно мне рюмочку?
– Наливай.
Выпив и закусывая крылышком фазана, бормотал:
– Ты только приказ напиши – и разжалуем.
– Я тебе разжалую! Сейчас пьём, едим мирно. А если начнётся заваруха, кто командовать будет? Мы, что ли, с тобой, пьянь голубая? Если тот перевал перекроют, капец нам. Они ломанутся сюда. Тогда кто будет командовать? Тебе, что ли, я доверю? Наливай и узнай обязательно, почему у него стволы блестят.
– Ну блестят и пусть блестят. Наши не блестят, но не ржавеют – и ладно, – выпив, говорил сержант.
Осмелясь, уже тянулся к бутылке.
– Как говоришь с командиром?! Встать! – кричал лейтенант.
Сержант вскакивал, вытягивался.
– Умри, а узнай, почему стволы блестят. Мне надо, чтоб во всём подразделении стволы блестели. Какой год «кирзу трёшь», а не понимаешь… Смотри у меня! – снова повторял он, жмурясь и темнея лицом. – Нагрянут проверяющие, в первую очередь оружие будут проверять. Дисциплину. Ты смотри у меня сержант, а то я могу как командир… Чего стоишь, лопаешь меня глазами?! Наливай себе поменьше, мне побольше. На том свете не поднесут.
Сержант плюхался на стул. «Буль-буль», – лилась из полной бутылки чача. И пьянея, лейтенант думал: «На хрена мне эта война? Авось, сюда не сунутся… Отсижу положенный срок – и в Россию. Дай-то Бог – не сунулись бы».
И пьяный засыпал.
Разложение началось в подразделении не сразу. Вкусно поесть – это не беда. Но вот когда чача пошла среди солдат, сначала маленькими дозами – для аппетита, а потом для веселья. Тот же лейтенант, опухший, вылезал из домика только по нужде, вызывал к себе командиров отделений и приказывал стоящим перед ним сержантам:
– He смотрите, что я пью. Чтобы служба была! Понимаете, где мы находимся? Идите!
– Есть! – отвечали сержанты и, повернувшись, уходили.
Но как они ни старались наладить службу, спиртное делало своё разлагающее дело. Чача перетекала из банок Николая в горло солдат. Как ни грозил сержант Костюк, как ни шумел, но они делали по-своему. Ходили даже выпившие на посты. А Костюку некоторые пригрозили: мол, смотри, у нас автоматы в руках. Вот в одну из таких ночей и случилась беда. Нашли утром сержанта покалеченным – получил удар прикладом по голове.
Костюк с солдатом вошёл в отведённую часть строения, где обитал
лейтенант. Он поднял глаза:
– Чего вам? Чёрт, рация испортилась, – перекидывал он на столе запчасти. – Говорил же, что нужен радист. Рация надёжная… Вот и надёжная, а я в ней ни бельмеса не смыслю. Кто-нибудь у нас есть, кто разбирается?
Оба пожали плечами.
– Чего хотели?
Доложили, лейтенант задумался.
– Может, направить донесение в особый отдел? – Но вспомнил фазанье крылышко. – Следить за этим Николаем, глаз не спускать. Вызови его! – приказал сержанту.
– Доброе утро, лейтенант! – вошёл Николай.
– Какое доброе?! Катись ты знаешь куда, синоптик грёбаный! Тут голова разрывается, словно пороховой заряд в ней зажгли. Лучше похмелиться бы нашёл.
– Найду, найду! – Угодливо стал он в почтительной позе. – Дай двух солдат с автоматами.
– Бери, раз один не можешь донести чачу.
– Я могу, но в аул идти опасно – заберут меня, Абдуле отдадут.
– Шут с тобой. Бери Ивана и Василия, они, кажись, друзья твои. Да смотри, если не принесёшь…
Иван с Василием переглянулись: действительно, глаз с него нельзя спускать.
Вскоре друзья подбежали к аулу. Солнце освещало башню круглую, которая сверкала каменным блеском мокрого гранита. Слабый туман наполз на селение. Слышалась песня на мотив: «А в степи глухой замерзал ямщик». И её жалобная мелодия заползала в душу солдат.
– Смотри, – сказал Иван, – наши песни поют.
– Наши? – скислил лицо Николай. – Свои, чеченские, на наш мотив.
– А о чём они поют? Василий, ты с Грозного, переведи.
– И охота тебе слушать? Вожделённый миг наступает, сейчас чача будет.
Принесли чачу лейтенанту. Выпил, хлебнули и солдаты.
Пока жизнь текла тихо, солдаты служили, отдыхали, и так изо дня в день. Обрыдла им эта служба. Три месяца кляли президента и министра обороны…
В тени небольшого тутовника, где ягоды, как чёрно-синяя малина, Иван чистил автомат, разбирая его и складывая на расстеленную ветошь (старый бушлат), мечтательно вздыхая, говорил о сокровенном.
– Видел я такой сладкий сон, – щуря на солнце глаза, рассказывал он. – Свою первую любовь вспомнил.
– Расскажи, что ты там видел… – попросил Василий.
– Не любил я до этого женщин, так, целовался с девчонками, а очень хотелось любить женщину. Очень мне нравилась одна женщина – соседка. Полненькая такая, глаза – сливы, груди – во, – показал он руками, держа перед собой автомат. – А я боялся её, как ребёнок тёмной ночи. И раз набрался храбрости, не выдержал, пошёл к соседке этаким майским днём. Бесшумно к дому прокрадываюсь, она на завалинке сидела, встала и пошла домой. Тут я возле сенной двери и столкнулся с ней. Вздрогнула она от неожиданности. «Ох, чёрт бесшумный, испугал меня», – глазёнками лупанула. А я весь дрожу: «Можно с тобой поговорить?» Она так это улыбается зазывно: «А отчего же нельзя?» А меня всего трясёт, аж в пот бросило. Я слов не нахожу, дар речи потерял. Она возле стены стоит – я к ней и прилип. Она с опущенными руками, обнял её, прижал, губы целую неумело, шею губами ласкаю. Она с закрытыми глазами, безответная. Смотрю, она потихоньку глаза открывает. Я замер, сердце остановилось. Думаю, сейчас она мне съездит по физиономии. А она глаза открыла и прошептала: «Разве так ласкают?» За руку меня взяла – и в избу. Руками меня обвила и давай целовать. Душа моя куда-то полетела. Руки мои дрожащие осмелели, под юбку полезли. А она шепчет: «Не здесь, дурачок, постель же есть». Пошёл за ней, люто пьянея от запаха её тела, смешанного с запахами разных трав моей деревни. Уж любил я как-то неумело, торопливо, попервой-то, сам знаешь. Всё на ней растерял, от стыда припух. Думал – выгонит, а она ласково так: «Ничего, попервой бывает». Всю ночь у неё был, миловался с ней, на петушином крике вышел, когда солнце взошедшее один бок греет, а другой в тени холодит. Тихо пришёл домой, разделся, матери не было. Проходил мимо зеркала, глянул на себя и ахнул: за ночь она заездила меня, если немного приврать, – с лица наполовину спал, глаза одни, а под глазами синяки, будто кто-то мне в переносицу кулак поднёс. Вздохнул я, но как вспомнил, как мне сладко с ней было, почему-то радостно засмеялся. Вот и приснилась она мне, только почему-то юная, хрупкая, – продолжал он, вставляя пружину обратного хода патронника. – Лежала обнажённая, вся белая, а груди… о, как вспомню про них, кровь в виски бьёт, с ума они меня сводили.
– А почему хрупкая?
– А потому, провожала меня в армию девчонка, которая любила меня.
– Ты что, соседку забыл? – спросил Василий.
– Видно, не забыл, – вздохнул Иван, – раз приснилась. – И о чём-то мечтательно думая, бессмысленно уставился в отверстие газового механизма. Потом продолжил: – Мама мою яркую любовь с соседкой прервала на зорьке, когда я от неё возвращался, в дверях встретила меня: «Сынок, если ты еще раз пойдешь к ней, я… я не знаю, что с тобой сделаю. Я эту сучку блудливую…» «Мама…» – только и сказал я.
Она села на стул – и в слёзы. И давай укорять: «Тебе что, девчонок мало? Она тебе в матери годится, а ты с ней связался». «Люблю я её, вот и весь мой сказ», – отрезал я матери.
Не ожидал я от неё такой нечеловеческой прыти. Прыгнула, как кошка, в мои лохмы вцепилась и давай меня лицом по столу волтузить. «Я тебя растила.... Жизнь себе хочешь испортить?! Не позволю!» Ну и всё такое прочее. Отпустила и разрыдалась, выскочила она из дома – и к соседке. О чём они там говорили, не знаю, только крик был на всю деревню. А после этого, как бабка отшептала. Соседка от меня на сто восемьдесят градусов голову отворачивала. А я чуть с ума не сошёл, свет стал не мил. Потом стал встречаться с девчонкой.
– И как же ты?
– Что?
– Встречался?
– Как? Просто!
– Ничего ей не рассказывал про соседку?
– Она сама об этом всё знала. На селе разве что утаишь?
– И что – разговор у вас был с ней? – допытывался Василий. – Да ты рассказывай, рассказывай, раз начал.
– А что рассказывать? – с неохотой продолжал Иван. – Разговор был. «Моя маменька говорит, что ты путаешься с соседкой», – и смотрит на меня этакими слезливыми, испуганными глазами. Глупенькая ещё. Я
смутился и говорю: мол, было дело, только зарубил я это. А она мне так
шепчет: «Я не могу тебе позволить это делать со мной. – И так с испугом на меня глазами стрельнула: – Я до пояса тебе позволяю». А сама сжалась, словно от испуга. Девчонка… – Он умолк, начищая шомполом до блеска ствол автомата.
– Ну так что же, со своей прежней любовью завязал?
– Какой там?! Спустя время потихоньку пользовался и тем, и этим. Ту любил как женщину, а эту как девчонку, с ума сводил поцелуями и лаской. Бывало, так нацелую её, заласкаю, такая она становится милая, податливая. Я сам сгораю, руками под юбку, она сразу дёргается, вцепится руками в мою руку. Она целует меня, вся в слезах, шепчет: «Миленький мой, хороший, после свадьбы хоть ложкой ешь». А я ей шепчу: «Терпежу нету». «Ну нет, так ты к соседке сходи. Я разрешаю, а после свадьбы…» Ну я и пользовался до поры до времени.
– Ну ты и котяра! – улыбаясь, глядел на него Василий. – А почему до поры до времени?
– А что тут особенного? Приехал муж с командировки, побил её маленько. И уехали они.
– И ты даже не попрощался с ней?
– Хотел… Встретил её у колодца, шепчу: мол, соскучился, видеть тебя хочу. А она меня ошарашила: «Не гони воздух губами, кончилось наше с тобой счастье, муж у меня, я замужняя женщина». Да с тем ушла, через несколько дней уехали они. Видно, нужен ей я был для утех, а любила она мужа. Сама всегда говорила: «Ну скажи, что любишь меня». Я, как бычок на поводу, шепчу ей: «Люблю тебя, жить не могу без тебя», она от счастья закатывалась. Видно, сладки ей были мои слова. Только мимолётно было всё это. Женщина любит что? Семью, уют, заботу, достаток. А что я мог предоставить ей? Самого себя. Такая игрушка, как у меня, и у него есть. Потом уехали они, куда не знаю. – Он замолк, задумался.
– А чего она от тебя отворачивалась, когда мать с ней поговорила? Испугалась, что ли?
– А как же не испугалась? Мать-то со злости ей такое наговорила… Что я даже дурной болезнью болен. Она сразу в больницу отправилась, как после рассказывала. А я с матерью с месяц не разговаривал после этого, а она, когда я стал встречаться с Валей, утихла. Так вот и жили, любили.
Он собрал автомат, насадил рожок, щёлкнул затвором, прислушался… Из-за угла послышались всхлипывания. Переглянулись – оба за угол, за ним, сидя на корточках, всхлипывал молодой первогодок-солдат.
– Ты чего?
– Живут же люди на гражданке, любят! А тут – не ныне, так завтра… – И слёзы нахлынули на его хрустально-бирюзовые, отдающие синью неба глаза.
Может, и высмеяли бы солдата за минутную слабость, но воспоминания о той мирной жизни размягчили сердца у обоих. Поэтому Иван сказал:
– Ну, до этого самого ещё далеко… Пошли, – поднял его Иван. – Желторотик ты, а ещё солдат. Держись возле нас.
Они вышли из-за угла. Тут и выскочил солдат в нижнем белье с магнитофоном в руках. Скороговоркой сыпались из него слова: «Заинька ты моя…» Что случилось с молодым солдатом! Он побелел и заорал: «Выключи ты этого Филю!.. Тут война, а он там за «Заиньку» деньги гребёт. Нас тут могут…» «Ты что сказал, салабон? – пошёл к нему старослужащий солдат. – А ну-ка повтори, что сказал старику!» – сердито сузил глаза. Но дорогу ему загородил Иван: «Иди куда шёл». «По нужде». – «Вот и топай». – «Да ты что? Он старику такое сказал…» Но глянув на Ивана, солдат неожиданно рванул за угол, прижав руками низ живота, с приплясом юркнул за угол. Они рассмеялись.
Однажды Василий и Иван опять встретили того солдатика-первогодка, его голубенькие глаза светились радостью на загорелом лице, он кричал:
– Всё, конец! Войне конец! – восторг и счастье на лице.
– Стой, салага! С чего ты взял, что войне конец? – остановили они его, ошарашенные.
– По телику видел, что Кадыров в Москве, – таращился он на них. – Так и сказал Ельцин ему: садись за стол переговоров. А он говорит: не сяду, если условия не выполнишь.
– Прямо так и сказал в Кремле, что не сядет за стол? Ну это ты, брат, гонишь! Если бы он так в Кремле сказал, да ещё съязвил, ему бы там сразу кранты сделали, – бурчал Василий.
– Не гоню я! Знаю, что если он там, то войне конец. К маме поеду! – побежал он, радостный.
Солдаты высыпали из своей «казармы». «Старики» переговаривались:
– Радуется, как младенец игрушке. Но если Кадыров в Москве, это действительно что-то значит.
– А, значит, испугался, что Россия навалится и победит. И никаких льгот! Что Чечня против России? А теперь оговорят себе условия: мол, не сдались, сели за стол переговоров… Слышал я перед призывом, Ельцин трепанул по телевизору: депортации не будет. А так, кто её знает… Но раз сказал, значит, в Кремле они оговаривали. А разговоры пошли, что навалятся, вязы свернут, ласты завернут назад – топай по старой дороге в Сибирь. Разрешил им вернуться, вот они и возбухнули. Не надо было этого делать.
– А по мне, хоть и так, лишь бы не воевать, – буркнул Василий.
Подошли к домику, где была столовая. Зашли. Получив обед, устроились в тенёчке.
Николай ругал себя:
– Зачем приехал сюда? Говорили, что заработать можно, уговорил один чеченец: мол, зарплата сто тысяч. Погнался за длинным рублём. Оказался в аду. Бежал. Встретил милиционеров, попросил показать дорогу на север. «Садись, покажем, довезём», – сказали. Сел – привезли к Абдуле, продали ему – и попал в горы, заставили пасти овец.
Николай вспоминал, как впервые он погнал овец в горы. Шёл с надеждой, что рано или поздно удерёт в Россию к семье. Поэтому с лёгким сердцем шёл и бормотал, перефразируя стихи поэта: «Приветствую вас, горы Кавказа, вы взлелеяли детство моё, вы носили меня на своих одичалых хребтах».
Смотрел он на скалы и горы, которые, словно пики, пропололи брюхо тёмным облакам. Потом, как ему показалось, послышалось гулкое пение. И тут до него донеслось жужжание, как будто от роя пчёл. Овцы почему-то кинулись вниз по склону. «Стой, куда вы?!» – бежал он за ними вниз, под гору. «Вот негодники! – думал он. – Не дали посмотреть, где пчёлы. Глядишь, медком разжился бы. Что они, с ума, что ли, посходили?» И тут случилось то, что он вспоминал всю жизнь. Сверкнуло так, что он ослеп. «Бе-бе-бе», – заблеяли овцы. От неожиданности Николай упал, словно его ударило по голове. С треском покатилась над его головой «колесница», ломающая не сучки, а брёвна. Он, ослеплённый, поднял глаза в сторону горной гряды и увидел, как в чёрно-синей туче горит костёр, сверкает огромное ветвистое дерево молнии. И над головой снова с треском и хрустом сухие раскаты грома. И горы в густо-бордовом цвете молниевой зари виделись башнями фантастических замков. А молния била по небу, словно белое снеговое устье реки замёрзло и растрескалось на ложе земли. Ошалевший, он бежал за овцами, которые по пологому скату неслись к обрыву. И он понял, что если овцы погибнут, то не жить ему, потому и помчался быстрее ветра, обогнал стадо и впереди вместе с козлом понёсся параллельно обрыву, а затем бежал, изменяя направление.
Когда гнал овец обратно, навстречу на лошади появился Абдула с собакой. Овец и коз, очумевших от страха, угнали в долину. И уже там, успокоившись, Абдула спросил: «Откуда знаешь, что овец надо так гнать? Скот дома пас?» «Нет, слышал, что куда козёл, туда и овцы». – «Правильно. Козла надо заменить. Козёл умнее человека, а этот стар стал». На другой день был другой козёл. Привёз его Абдула из другого места. Козёл пошел к стаду с гордо поднятой головой и повёл его за собой. Абдула расщедрился: дал чекушку чачи, кусок мяса, большую лепёшку пресного хлеба, сказал: «Береги овец – жить хорошо будешь».
И началась у него жизнь в горах. Часто видел над горами летающие тарелки. Сперва удивлялся, думал – пришельцы, потом перестал удивляться, слишком много их было над вершинами гор. Понял – облака это, обман зрения. А когда пас овец по склонам, то сперва тоже удивлялся, что воздух порой наверху был теплее, чем внизу, и приходилось снимать с себя старую, видавшую виды бурку. Бурку Абдула вынес из сакли и дал, словно шубу с царского плеча снял. Сказал: «Береги, носи. Она тебя спасёт и от змей, и от фаланг, от пауков и всяких насекомых. Не любят они запах овцы».











