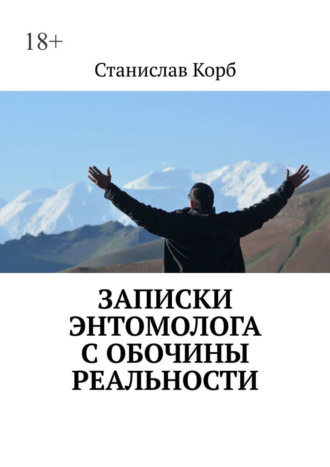
Полная версия
Записки энтомолога с обочины реальности

Записки энтомолога с обочины реальности
Станислав Корб
Дизайнер обложки Павел Юниевич Горбунов
© Станислав Корб, 2025
© Павел Юниевич Горбунов, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0067-0204-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо предисловия
Энтомология – наука о насекомых, соответственно, энтомолог – это тот, кто такой наукой занимается. Обычно облик энтомолога рисуется как субтильный мужчина (реже – женщина) в очках с толстыми стеклами и роговой оправе, одетый в зеленый плащ и высокие сапоги, с белым сачком и кучей склянок в одежде, с пинцетом и толстой книгой под мышкой. Этот образ происходит, главным образом, из образа Паганеля, так удачно сыгранного Лембитом Ульфсаком в советском фильме «Дети капитана Гранта». В представлении большинства людей энтомолог бегает по окрестным лугам и горам, машет сачком, ловит бабочек и жуков.
На самом деле энтомолог в современном мире – профессия высокотехнологичная. Конечно, почти всем энтомологам приходится время от времени и с сачком побегать, но основную массу своего времени они заняты в своих лабораториях: с микроскопами, секвенаторами и другими сложными приборами они изучают сложный мир шестиногих.
Экспедиционная работа современного энтомолога не менее технологична. Используя современные средства транспорта, системы позиционирования GPS и Глонасс, интернет и прочие прелести цивилизации, современный энтомолог значительно эффективнее в поле1, чем энтомолог прошлого. Но, в любом случае, работа в поле – это всегда приключение, всегда – некий элемент случайности и, конечно, без походной романтики тут не обходится.
Эта книга – сборник коротких рассказов о некоторых забавных или поучительных случаях и небольших приключениях, случавшихся в моих экспедициях.
Надеюсь, вам понравится.
С уважением, автор (современный энтомолог).

Автор книги в экспедиции в Таджикистан в 2013 году
Коллеги
Сюрпризы вроде этого, который случился с нами в 2017 году на Алае, бывают не часто. Обычно встреча с коллегами в полевых условиях – дело не просто заранее спланированное, но и многократно скоординированное. Задействуются все доступные ресурсы: мобильная связь, интернет, заранее разработанный маршрут передвижения. Под эту встречу резервируется бутылочка чего-нибудь вкуснее водки и элитная тушёнка или даже что-то более экзотичное.
Но когда на одну точку на громадной планете в одно и то же время совершенно независимо приезжают коллеги из разных экспедиций (и даже стран) – это событие из разряда «вероятность сильно меньше тысячной процента».
Урочище Арчаты на Алае – место примечательное и замечательное. Туда есть хорошая дорога. Там есть вода (несколько ручьев и ключей). Не сильно нарушенная природа и, что самое главное – комфортные для нахождения высоты. Мы заезжаем туда каждый раз, когда идём в высокогорье – отдохнуть и понежиться перед тем, как уйти в холодищу суровых гор.
В этот раз было также. Давно примеченная нами заброшенная глинобитная сакля служила нам защитой от ветра, текущий на склоне рядом с ней небольшой ручеек – источником воды. Подъехали и встали рядом, как обычно. И тут, буквально через 10 минут после нашего прибытия, вдали показались два патрола. Нещадно пыля, они подъехали к нам.
– Хай!
– Хай.
– We are biologists from Austria and Germany and we would like to take a night here!
– Wow! We are biologists too, and we will stay here too.
Оказалось, что это – наши коллеги из Германии и Австрии, и что они обследуют юг Кыргызстана в составе комплексной экспедиции. Мы немного поболтали, после чего наши коллеги решили все же стоять не рядом с нами, а переехать на соседний склон.
На следующее утро они уехали, но память об этом событии, о весёлых и неунывающих европейских коллегах, о неожиданной приятной встрече – эта память будет жить очень долго.
Хлеб
В одной из экспедиций мы забрались так глубоко, что обнаружили, что в ближайшем селе (километров 12 от места стоянки) не продают хлеб. Ни в одном магазинчике (а было их на все село четыре штуки). Люди готовят его сами, никто не покупает. А там, где нет спроса – нет и предложения.
А хлебушка хотелось. Продавец в одном из магазинов посоветовала пройтись по домам и спросить, может кто-то продаст свой домашний хлеб. Но до такой степени голода мы ещё не дошли, поэтому было принято решение хлеб приготовить самим. Купили муку, соль, сахар и дрожжи.
За дело взялся Саня Барышев, в честь которого мы с Лехой Беликом назвали таинственную желтушку с Талдыка. Замесил тесто в походном котелке, поставил в тепло. Тесто поднялось, да так знатно! Достал походную сковороду, и пошла работа.
Масло – на сковороду. Плоские камни – вокруг костра. Жарко шкворчит масло, над биваком распространяется бесподобный аромат свежего хлеба. Непередаваемое ощущение предвкушения вкуснятины.
Конечно, это был не хлеб в его обычном понимании – скорее, это были наполовину оладьи, наполовину – лепешки. Но вкусные до безобразия! После этого каждый день мы наслаждались своим собственным хлебом, приготовленным на костре.
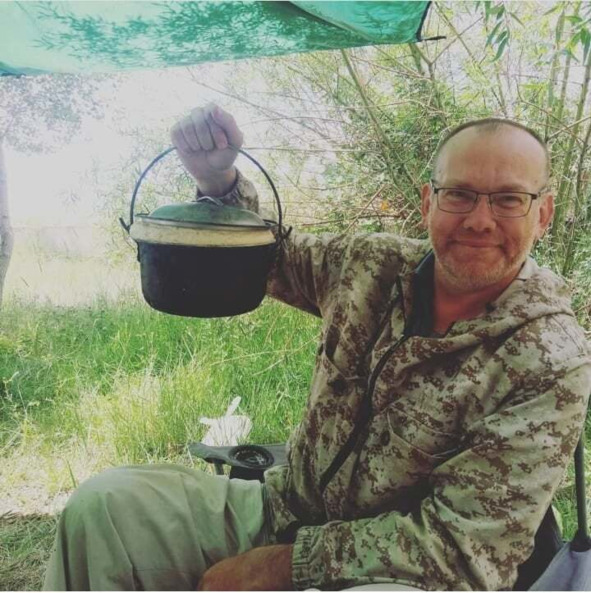
Автор наблюдает за тем, как поднимается тесто для хлеба в горах Молдо-Тоо
Ночной бегун
А эта история случилась с нами совсем недавно, в самом конце прошлого лета. Двое моих друзей из славного города Пензы коротали последние дни экспедиции. Поступило предложение затариться всякими вкусняшками и, отъехав немного в горы, с удовольствием их там употребить, любуясь красотами ночного города издалека, вдыхая свежий воздух и слушая стрекотание цикад, кузнечиков и прочих насекомых
Сказано – сделано. Заехали в магазин, закупились. Купили также, что покушать, и уехали за Арашан. Есть там у меня одно замечательное место, где и заезд нормальный, и горки не скучные. Там и встали.
Разложили складные стульчики, столик, поставили вкусняшки, еду… И начали общаться. Часа в 2 ночи решили-таки пойти спать в машину.
А надо сказать, нас трое было. А машинка – гольф 4. Не самый приспособленный для ночлега аппарат. Но поместились. У кого нога торчит из окна, у кого голова в багажнике… В общем, спать, спать, спать.
Горы вокруг крутые, дорог да тропинок, кроме той, на которой машина стоит, нету. Ночь. В горах темнота, хоть глаз коли. И только начали мы засыпать…
С горы послышался громкий топот, да с таким резким пришлепыванием – как будто кто-то в босоножках бежит. Сначала мимо машины промчалась собака. А потом – молодой парень. Летел он с горы, как в попу ужаленный, да оно и понятно – склон крутой, разгонишься – не остановишься.
Через минуту его громкий топот затих далеко впереди. Мы некоторое время порассуждали, что мог делать этот спринтер в горах в два часа ночи, пришли к выводу, что, наверное, это пастух, который запоздал к ужину и теперь сильно торопился наверстать упущенное, да и стали дальше спать. Утро то вечера всяко мудренее
Страшная бабочка-вампир
Почти десять лет назад ко мне в гости приехал мой хороший друг, финский айтишник Юха. Он очень хорош в восстановлении данных – собственно, на этой почве и познакомились, и наша крепкая дружба продолжается уже больше 20 лет.
Так вот. Приехал Юха. Сходили мы в пару кафешек, посмотрели площадь Ала-Тоо, а потом он и говорит:
– Не интересно. Хочу увидеть, как люди живут.
Ну, сказано – сделано. Собрали туристические пожитки, загрузились в машину, да и поехали в самую глубинку – в Нарынскую область да на Алай.
Вот в Нарынской области эта история и произошла
Юха сильно устал за рулём, и сказал:
– Делай что хочешь, а гостиницу мне найди. Палатка твоя неудобная, днём жарко, ночью прохладно, никак не выспаться!
Ну, куда деваться? Пошел я по селу (доехали как раз до небольшого поселочка, километров 30 не доезжая Куртки), спрашиваю: не пустите бедных путников переночевать за деньги? В первом доме оказалось много народу – пошли дальше. Во втором говорят – да, без проблем! Посмотрите комнату, если подходит – спите.
Юха в комнату заглянул: матрац есть, одеяло есть, окно занавешено. Упал на постель, выставил флаг: не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым – да и надавил на массу. Да так успешно, что его богатырский финский храп пошел раскатами по всему дому.
А мне что делать? В доме двое молодых людей: парень лет 20, да его сестра лет 16. Взрослые уехали куда-то толи на той, толи на куранок – и не вспомню уже. В общем, решил я покушать сделать. Наварил лапши с макаронами, молодежь покормил. Тут как раз и стемнело. И пошел я на улицу, под фонарь, бабочек смотреть. А девочка со мной пошла – видимо, тоже интересно.
Так вот. Сижу я под фонарем. Бабочки об него стукаются и вниз падают. А я разглядываю. И все бабочки такие интересные! И тут слышу – девчонка каааак заорёт!!

Шайтан-кополек – орденская лента, залетевшая ко мне в дом и усевшаяся отдохнуть мне на руку.
– Копелек шайтан!!!
А я слышал, что так кыргызы крупную павлиноглазку называют – коричневая бабочка как раз с женскую ладонь, и на крыльях у нее глаза нарисованы. Обрадовался – классно, думаю, как раз хотел ее увидеть. Оборачиваюсь – а на столбе сидит орденская лента, передние серые крылья задрала, задними красными немного шевелит – ощущение такое, будто язык кто-то высунул раздвоенный, как у змеи. Ну я бабочку накрыл (тоже интересная, не хуже павлиноглазки), и спрашиваю:
– Айгуль, а почему бабочка-шайтан?
– Байке, эти бабочки, говорят, кровь у коров по ночам пьют. Посмотрите, какой у нее длинный хоботок! Она им, говорят, на коже как пилой разрез делает, кровь оттуда выходит, и она ее слизывает. Вампир, шайтан! Может и у человека тоже пьют!
А хоботок у лент действительно длинный, особенно у той, что на столбе сидела – малиновая орденская лента, самая крупная лента в стране. Но, конечно, к кровопийству эти бабочки никакого отношения не имеют. Правда, есть у них особенность: любят перебродивший сок деревьев, гнилых фруктов, ну и все такое. Так что, если корове на бок кусок арбуза попадет (арбузными корками их часто кормят – не пропадать же добру), то бабочка очень может прилететь, чтоб полакомиться соком. А в темноте да сослепу это будет так и выглядеть: красная арбузная мякоть – как свежая рана, а на ней сидит большая серая моль, шевелит красными задними крыльями и шурует длинным хоботком в красной «свежей ране».
Вампир, ни дать, ни взять!
Энигма
Энигма в переводе с греческого – загадка. Этим словом обозначают обычно что-то такое, что не могут найти, над чем бьются долгие годы (а иногда – десятки и даже сотни лет). Я же хочу рассказать вам о бабочках-энигмах.
Примеров бабочек с загадочными происхождением и историей довольно немало. Это и первые птицекрылки (Ornithoptera), которые летали так высоко, что их приходилось подстреливать из ружья; это и некоторые высокогорные парнассиины, и другие. Из парнассиин, пожалуй, самая интересная судьба-загадка по праву принадлежит бабочке Аполлону автократору. Эту бабочку описал в 1913 году известный российский энтомолог Андрей Авинов.
Самое любопытное, что никто так до сих пор и не знает, где была эта бабочка поймана. Авинову ее прислали из среднеазиатских владений Российской империи, из Памира, без, что называется, сопроводительных документов. Долгое время считалось, что бабочка была поймана на Дарвазе – что ещё больше запутывало ее поиски, так как именно там этой бабочки нет. Но люди упорно искали ее в окрестных горах.
Единственный экземпляр автократора долгое время оставался единственным. Он даже был украден из коллекций Зоологического института в Санкт-Петербурге и продан на одном из аукционов; стоило огромных трудов вернуть его обратно.
В 30-е годы прошлого века немецкий энтомолог Ганс Котч (Hans Kotzsch) обнаружил автократора в Афганистане. Увы, он долгое время не рассказывал, в каких условиях обитает эта бабочка, оставаясь монополистом в ее поставке на рынок коллекционеров Европы. И хотя бабочка была описана с территории Российской империи, найти ее на этой территории никак не удавалось.
Прорыв наступил в 80-е годы прошлого столетия, когда усилиями Александра Крейцберга и Леонида Каабака бабочка была наконец найдена. И найдена не в одном, а сразу в нескольких местах, в Таджикистане: близ Сарезского озера и на перевале Гушхон. Александр Крейцберг исправил местонахождение, откуда была описана бабочка (оно называется типовое местонахождение, где обитают эталонные особи вида), на перевал Гушхон. К сожалению, справедливость этого исправления никак нельзя доказать, оно больше умозрительное, чем основанное на фактах. Именно поэтому, даже по прошествии больше чем ста лет с момента обнаружения, бабочка-автократор все ещё остаётся энигмой, хотя уже давно известно много мест, где она летает (включая одно в Кыргызстане).
К чему все это?
А вот к чему. Недавно я и мой Саратовский коллега Алексей Белик описали из Кыргызстана новый вид желтушек, Желтушку Барышева Colias baryshevi. Находка весьма нетривиальная, и прежде всего потому, что описана бабочка с перевала Талдык, на котором энтомологи работают каждый сезон.
Первые экземпляры новой желтушки были пойманы в начале девяностых годов прошлого века, но вот беда: где они были пойманы, человек, их собравший, не помнил. Маршрут его экспедиции был довольно простым: по Памирскому тракту из Кыргызстана в Таджикистан, и обратно. Условия, пригодные для обитания неизвестной желтушки, представлены почти по всему маршруту, а это несколько сотен километров высокогорий с плохими дорогами и архисложными условиями поиска. Но что делать? Пришлось искать.
Наша исследовательская группа обозначила район поиска от перевала Талдык в Кыргызстане до озера Дункельдык в Таджикистане – более 300 километров! И начала отработку маршрутов. У нас не было выбора: простой поиск «в лоб» – это единственное, что доступно в данном случае. И мы искали…
Сезон проходил за сезоном, а успеха не было. Поиск в условиях высокогорий – то ещё удовольствие, да плюс бабочка вполне может держаться строго определенного склона, не особо вылетая за его пределы. Вот и попробуй найти ее, иголку в тысячах стогов сена, раскиданных по разным склонам, на разной высоте… бабочка оставалась энигмой.
Но все же нам повезло. Пензенский исследователь Александр Барышев нашел эту бабочку на перевале Талдык. Так мы узнали, где всё-таки она летает, и смогли описать новый вид не из terra incognita, а из определенного точно места.
Реле
Когда двигаешься в экспедиции на автомобиле, его исправность становится в буквальном смысле краеугольным камнем всего путешествия. Именно поэтому начинаешь не просто аккуратно проверять уровень масла или антифриза каждое утро, но и буквально прислушиваться к тому, как ведёт себя авто.
Возникновение любого постороннего шума – серьезный повод чуть ли не к панике: что? Что случилось?! Все пропало, машина дальше не поедет!!! Запасов хватит на месяц, а потом нас ждёт мучительная смерть от голода!
Конечно, все не так грустно. Но все равно, машину начинаешь ощущать, как одного из членов экспедиции. Относишься к ней, как к обладателю души, даже называешь по-особенному – например, моя машина на время экспедиций принимает имя Ласточка.
…Ранней весной я люблю выезжать в горы с целью ознакомиться с теми представителями флоры и фауны, которые смогли пережить зиму. Из растений это многочисленные тюльпаны, ирисы и крокусы. Ну а из живности – мухи, жуки и бабочки.
Вот и в этот раз я отправился к подножию одной из гор, чтобы лицезреть своими глазами то, как просыпается жизнь после зимнего оцепенения. Однако пока я ехал, мой слух напрягало какое-то ненормальное щёлканье, доносившееся явно из-под приборной панели. Я открыл бардачок, осмотрел внимательно его содержимое – щёлкать вроде нечему. Начал искать причину – и вскоре она нашлась. Щелкало одно из реле в соответствующей панели. Замена реле результата не дало: щелчки продолжались.
Поднапугавшись, по возвращении домой поехал к электрику. Тот не смог разобраться в причине того, почему реле щелкает. Посоветовал его просто извлечь, и так и ездить. Что это за реле – информации не было.
Я так и сделал, и пару дней все было прекрасно. До тех пор, пока я не решил все же разобраться: в чем таки дело, и что это за реле? Интернет, обычно такой мудрый и всезнающий, на этот раз молчал. Без особых надежд я воткнул на место реле, и снова услышал мерные щелчки.
Обошел машину по кругу. Постойте-ка… Штанга дворника задней двери отсутствует, а вот крепёжный болт крутится! Ах тыж ёкарный пистолет! Штангу я снял как раз за неделю до выезда, на нее нужно найти дворник, без дворника она при движении назад в дождь срабатывает автоматически и больно царапает заднее стекло. Так вот, кнопка заднего дворника оказалась нажата, и щелкало реле его управления, которое тупо качало крепеж штанги вперед-назад!
Отжал кнопку – и подозрительные звуки прекратились. Вот так…
Чудеса японской фототехники
Эта история приключилась в 2009 году, в ходе большой экспедиции по Кыргызстану. Одним из ее пунктов был Сары-Челекский заповедник. Пропустим красоты озера Сары-Челек, по которому нас несла быстроходная моторная лодка. Пропустим чудесную нетронутую природу заповедника. Пропустим все, что вызывает восхищение, и сконцентрируемся на леденящем ужасе, который мне пришлось пережить.
На другом берегу озера, который не могут посещать обычные туристы (чтобы туда попасть, нужно или переплыть озеро на лодке, или долго ехать на лошадях – и при этом нужно специальное разрешение, так как там природоохранная зона) в озеро втекает река. Она питается из многочисленных ледников и снежников, которые покрывают почти все саи в среднегорье. Эти ледники и снежники имеют довольно рыхлую структуру, из-под каждого вытекает небольшой ручеек, который затем и втекает в речку, питающую озеро.
Один такой снежник я и выбрал для того, чтобы взобраться на склон. Идти по снежнику намного легче – он ровный, на нем не растут непроходимые чащи барбариса и диких роз, разрывающие одежду длинными иголками. Не путается в ногах трава, не норовят запрыгнуть за шиворот вездесущие муравьи. Рай, да и только!
Но я не учел одну важную деталь. Сходить со снежника нужно очень аккуратно, так как в том месте, где он соприкасается со склоном, он тает быстрее – земля темная и лучше прогревается солнцем. Я же шагнул без каких-либо приготовлений, и тут же за это поплатился.
Большой пласт снега откололся от основной массы снежника, и со мной во главе пошел вниз по склону. Склон оказался очень крутым и скалистым, и – высоким. Я проваливался под снежник. Прыгать было поздно. Вокруг внезапно наступила темнота и повеяло могильным холодом. Где-то на уровне моего уха мерно капала вода: кап… кап… кап… Внизу журчал ручеек.
Темно. Холодно. И никто не знает, где я! Из оборудования с собой только камера – японец Canon EOS 5D Mark II. Говорят, его корпус сделан из титана. Чтож, сейчас проверим…
Склон имеет крутизну примерно 60 градусов. Лезть по такому вверх – глупая затея, сорвешься. К тому же, склон сырой, и весь покрыт скользкой глиной. Ползти вниз и искать дорогу под снежником – верная смерть. Или снежник обвалится и похоронит тебя, или просто заблудишься в кромешной тьме. Дорога одна – вверх.
Но – как??? Вот тут и спасла японская техника. Длинный ремешок закидываю наверх, на один из выступов какой-то скалы. Подтягиваюсь на нем. Ногами упираюсь в фотоаппарат, который висит на ремешке. Перехватываю выступ руками, подтягиваю камеру. Отдыхаю. Главное – не выронить фотик. Внизу я его уже точно не найду, а без него мне не выбраться. Группируюсь и закидываю ремешок на полметра выше…
Через три часа я пришел в лагерь. Грязный, как бомж. В изодранной одежде. Японский фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II покрыт слоем грязи и царапин. Ремешок – с размахренными краями и весь в глине. Что-то от фотоаппарата оторвалось, но – не критично. Кстати, этот фотик я использую до сих пор, он прекрасно снимает. Единственное – был сильно разболтан байонет, но это мне починили. Оправдала себя японская техника. Реально, видимо, из титана.
Ну а я… Я выпил винтом две бутылки коньяку и проспал больше суток. И с тех пор я не хожу по снежникам.

Озеро Сары-Челек
Очень хочется спать…
Когда ты двигаешься по горам, искать место для ночлега нужно начинать задолго до того, как зайдет солнце. Этому нас научила одна ночь, о которой я и расскажу сейчас.
Мы двигались из Хорога в Куляб через перевал Хабуробот. Сказать, что дорога ужасна – не сказать ничего; достаточно лишь уточнить, что расстояние в 176 км мы преодолевали двое суток.
На второй день пути, когда мы прошли долину реки Сурхоб и начали подниматься на небольшой перевал в районе Файзабада, через час подъема по дороге, состоявшей (на тот момент) только из крупных камней и глины, мы поняли: засветло нам этот перевал не пройти. Ехать по такой дороге в темноте – абсолютно невозможно, наше транспортное средство для этого не приспособлено совсем.
Решили искать место для стоянки. За час проехали не больше пяти километров – и чем дальше ехали, тем хуже становилась дорога. Вот уже и солнце коснулось вершин окружающих дорогу гор, а места для стоянки как не было, так и нет. Дорога – буквально высеченный в скале узкий коридор, по которому автомобили двигались только в один ряд. Разъехаться можно только на специально оборудованных карманах, или в местах поворотов, где серпантин давал возможность небольшого маневра. С одной стороны дороги – пропасть, на дне которой то и дело угадывались остовы свалившихся туда машин. С другой стороны – отвесная стена, с которой то и дело срываются мелкие камушки.
Солнце село. Наступила полутьма, а места для стоянки – нет. Но остановиться надо, так как ехать дальше в темноте да по такой дороге – огромный риск не только потерять машину, но и здоровье (а то и жизни).
Внезапно начался асфальт. Вот буквально только что мы ехали по разбитому ухабами бездорожью – и вдруг, за одним из поворотов дороги – прекрасное ровное полотно. И – различные дорожные указатели, которые обычно сопутствуют дорожному строительству. Дорога была свежая, явно построенная едва ли не несколько дней назад.
А солнце уже село совсем. Увидев на краю дороги большой щит с данными, какое СМУ строило этот участок, мы решили дальше не ехать, а остановиться на ночлег прямо за этим знаком, в нескольких метрах от проезжей части. Загнали за него машину, наскоро перекусили лепешкой и какой-то консервой, и начали устраиваться спать. Четыре человека в Daewoo Nexia.
Естественно, всем четверым комфортно разместиться в такой машине – нереально. Прямо за щитом, который мы выбрали в качестве укрытия, находились остатки какого-то бетонного строения. Пробовали спать на нем, подстелив карематы. Но – жестко, жестко… По краям дорожного кармана росли какие-то крупные колючки; ими был усыпан весь наш «пол», и время от времени они больно впивались в ноги. Вдалеке то и дело выли шакалы, а по дороге то и дело проносились машины, освещая нас своими фарами. Представляю, что думали водители этих машин, когда из темноты свет фар вдруг выхватывал страшные бородатые рожи, застывшие в причудливых позах на бетоне, ведь совсем недавно в этом районе подавили очередную ячейку какой-то террористической организации.
В общем, ночь прошла в постоянном движении между сидением автомобиля и бетонным столом. Утро мы встретили вместе с восходящим солнышком, завелись и поехали дальше, в благословенный Куляб, где нас ждали нормальная постель и вкусная домашняя еда.

Таджикистан, Памирский тракт. Найти тут место для стоянки – тот еще квест.
Мультики
В высокогорьях Алая нет электричества, кроме того, что генерируется на месте. Линии электропередач срезаны в 90-е и сданы на цветмет, ну а новые, увы, никто не провел. Кстати, так не только на Алае – есть много высокогорных областей в Кыргызстане, где электричество кончилось примерно 30 лет назад. Восстановить электроснабжение можно, но требуются серьезные вложения, делать которые ради нескольких семей пастухов никто не будет.



