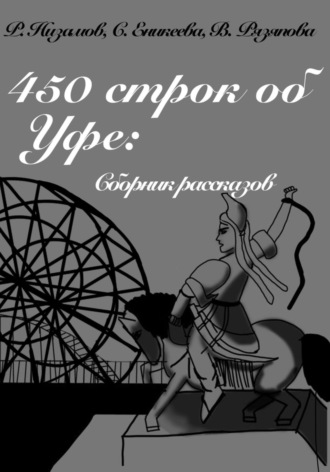
Полная версия
450 строк об Уфе: сборник рассказов
Но и до 1574 года о местности, на которой расположена современная Уфа, тоже есть, что написать, поскольку признаки человеческого обитания обнаружены здесь еще с бронзового века. Археологи утверждают, что наскальные изображения верблюдов в Каповой пещере у нас в Башкирии – одни из самых древних. Более того, они до боли напоминают такие же изображения в пещере Арманьяк во Франции. Получается, то ли наши предки перемещались на территорию современной Франции, то ли французские племена перемещались к нам, на Урал. Одним словом, великое переселение народов существовало еще задолго до «цивилизации».
Доподлинно известно, что здесь бывали и гунны, и монголы, и скифы, и сарматы тоже… Кого только не видела эта земля! Если бы она могла рассказать о тех временах, возможно, эти рассказы затмили бы собой сюжет легендарной Трои. Но воспевать ее было некому: никакой государственности, а значит, никакой летописи и истории. Остается только надеяться, что рано или поздно наука раскроет все тайны доисторической истории этой местности.
Мы же обратимся к имеющимся и подтвержденным историками фактам: до официальной даты рождения города (1574 год), на месте современной Уфы существовал ряд городищ:
– городище, названное историками Уфа II, следы которого простираются с V до XIV века; из которого появляется средневековый город, обозначенный как Паскерти на карте 1337 года братьев Пиццигани, в Каталонском атласе и позднее на карте 1554 года Г. Меркатора;
– город Башгирд (Башкорт), упоминаемый арабским автором XIV века Ибн Хальдуном среди крупнейших городов Золотой Орды;
– в XVI веке тут обитала ставка наместника биев Ногайской Орды, под чьим протекторатом находились башкиры.
Такой ли уж грозный был Иван Грозный, или Иван Грозный – автор льготного налогообложения
Таким образом, было как минимум 3 попытки создания города. Но только при Российском государстве это получилось. Почему так вышло? У историков много сложных версий.
Как бы там ни было, в то время, о котором пойдет речь, сложился следующий геополитический расклад. Пока ещё слабое Московское царство находилось в состоянии давления со стороны уже сильных западных и южных государств, результатом чему были многочисленные войны с ними (русско-шведская война, ливонская война, походы против Крымского ханства, русско-польская война и т.д.). В это же время её восточные границы постоянно подвергались набегам потомков некогда великой Золотой орды – Казанского ханства и Ногайской орды.
Иван IV, взяв Казань в 1552-м году, положил конец Казахскому ханству, но его по-прежнему донимали набеги Ногайской орды, которая ими и жила. Учитывая, что уже готовилась русско-шведская война и назревали войны с другими соседями, Иван Грозный никак не мог допустить проблем на восточном фланге. Нужно было разобраться с Ногайской Ордой. Но сделать это было весьма непросто, так как именно к этому времени она достигла пика своего военного могущества.
Но, надо сказать, что народы, находившиеся под ее управлением, чувствовали себя не очень вольготно. Сознавая свою силу, а вместе с тем и безнаказанность, Ногайская Орда усилила давление на народы, в том числе на башкир. Пользуясь своей военной мощью, ногайские беи стали захватывать исконные земли башкир и облагать их ясаком. Размер его был достаточно серьезным, а его сбор на деле сопровождался насилием и грабежом в ответ на возрастающее сопротивление со стороны башкир. Кроме того, никто не отменял воинскую повинность, которую несли народы, а, учитывая большие аппетиты самой орды, эта самая повинность тоже была весьма ощутимой.
Оценивая все геополитические риски и возможности, Иван IV обратился ко всем народам Урало-Поволжья с предложением принять российское подданство на очень выгодных условиях. Настолько выгодных, что башкиры достаточно оперативно и без особых колебаний приняли это предложение.
Так, согласно договора с Московским царством от 1557 года, за башкирами закреплялись почти все их привилегии: вотчинное владение землёй, сохранение собственной религии и широкая автономия под управлением наследственных тарханов и старост. Конечно, башкирская страна также принимала на себя ряд обязательств: они должны были платить дань (ясак) в казну, нести воинскую службу, но прежде всего – по охране юго-восточных границ государства: то есть, так сказать, служить на месте.
Более того, разница в размере ясака была просто ошеломляющей. Ясак платился пушниной (как правило, куницей) и мёдом. Но если в Ногайской Орде башкиры платили 1 куницу с человека, то по договору с русским государством – 1 куницу со двора. Учитывая, что во дворе могло проживать до десятка человек и даже более, налоговое бремя сокращалось для некоторых в 10 раз!
Ивана Грозного можно смело назвать одним из основоположников Зон Особого Налогообложения Автономий (сокращенно – ЗОНА), которые широко используются в современной экономической практике. Но масштаб и размер льгот, предложенный русским царем, поистине впечатляющий. Представьте себе, что вы платите подоходный налог не 13%, как платит современный гражданин России, а в 10 раз меньше, т.е. почти ничего! Едва ли в истории Европы встречались такие условия. Скажи шведам, подоходный налог которых варьируется сейчас от 27,5 % до 33,7 %, что он сократился в 10 раз! Глядишь, и русско-шведской войны в 1554 году бы не было. И они бы всем составом переехали на Урал осваивать восточные территории необъятной нашей родины и тихо радоваться такой удаче. Хотя, нет…. Говорят, что шведы гордятся своей налоговой системой и отдают в неё свои средства не просто добровольно, без всякого принуждения, а с радостью. Потому как они знают: от налогов зависит высокий уровень жизни страны, включая образование, здравоохранение и иные аспекты жизни. Странные они, не правда ли?
А вот башкиры сразу осознали всю прелесть предложения! Более того, за местными сохранялась земля, на которой они собирали мёд и ловили куниц. То есть сохранялась налоговая база для ясака, поэтому даже такой мизерный налог становилось платить многократно легче.
Что касается меда, то с одного племени ясак составлял всего лишь 18 батманов мёда. Учитывая, что 1 батман составлял приблизительно 4 кг, то, можно сказать, что налог с одного племени составлял 18 трехлитровых банок мёда. Тьфу, а не налог!
Для малых народов это просто райская система налогообложения. Такое предложение было настолько привлекательным, что некоторые башкирские племена привозили на подписание договора взятых в заложники мурз Ногайской Орды! Поэтому в деле расширение восточных границ России я бы назвал Ивана Грозным Иваном Гибким.
Руслан Низамов
Городу быть!
После решения войти в состав Московского царства, башкиры вскоре обратились к Ивану IV с челобитьем о строительстве на их земле города. Ведь для торговли и решения всяких житейских вопросов до Казани ехать было далеко, к тому же оставалась необходимость отражать набеги. Для Московского царства это также было выгодно, ибо одно дело управлять большими землями из Казани, другое дело – прямо тут, на месте.
Сначала Иван Грозный направил дворянина Ивана Артемьева для выбора места под строительство. А чуть позже, в 1574 году на Троицком холме, отрядом стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим был возведён Уфимский кремль. Эту дату принято считать днем основания нашего города.
Кремль был возведен как острог9 – так в этот период строились все города. По размеру он был достаточно небольшой, поэтому главные здания и сооружения построили быстро в течение года. Массивные дубовые стены имели общую длину лишь 440 метров, над южной и северной частями кремля возвышались дубовые башни, церковь была срублена в «един день» и названа Троицкой. Немного дальше появились первые избы и хозяйственные постройки. К сожалению, Уфимский кремль не сохранился до наших дней, на его месте уже 50 лет располагается Монумент Дружбы.
Интересен тот факт, что фактически первым основателем Уфы стал Иван Нагой, но первым воеводой стал его брат Михаил Нагой. Дело в том, что лишь с 1586 года Уфа получила статус города и стала административным центром Уфимского уезда. С его появлением была учреждена воеводческая форма управления, а первым воеводой как раз и стал присланный Москвой Михаил Нагой. На первых порах ему подчинялось гарнизонное войско в 150-200 стрельцов.
Спустя почти 430 лет, 7 июля2007 года на улице Башкирская в посёлке 8-е марта города Уфа установили памятник основателю Уфы воеводе Нагому Михаилу Александровичу, снабдив его надписью «от благодарных уфимцев».
Надо сказать, что данное фортификационное укрепление не раз помогало в битве с ногаями, которые не сразу смирились с потерей власти на данных землях. И хотя набеги ногайских мурз отмечались вплоть до начала XVII веке ещё, они уже не являлись попытками восстановления ногайской власти в крае, а совершались лишь для грабежа и обогащения. Собственно, для этого и была создана Ногайская Орда – тем она и промышляла до конца своих дней.
И в этом есть один весьма показательный урок для истории.
Представьте себе ситуацию перед захватом Казани. Если бы Казанское ханство и Ногайская Орда не досаждали так сильно Русскому царству с востока, то Иван Грозный не пошёл бы походом на них. А теперь вообразите, что Ногайская Орда стал бы укреплять не военную силу для дальнейшего обогащения за счёт набегов, а выстраивать внутреннее ядро государственности: развивать ремесла и торговлю, строить города, укреплять границы. Тогда с большой вероятностью между Московским царством и Ногайской ордой было бы заключено соглашение, которое по современным стандартам называлось бы, скажем, «Договором о признании границ».
И никакого бы присоединения народов Урала и Поволжья в обозримой перспективе не было бы, ибо Московия была бы сильно занята западными границами. Но Ногайская Орда изначально была построена по монгольскому принципу: сила и дань. И она была разрушена изнутри народами, ее населявшими: достаточно было огласить Ивану Грозному партнерские предложения, как империя рухнула.
Для сравнения. Как вели себя испанцы в Южной и Северной Америке, мы все хорошо знаем: результатом их деятельности стало вымирание исконных народов – ацтеки, инки, майя не дадут соврать. Как вели себя американцы на исконных индийских землях, мы тоже прекрасно помним: коренным индейцам оставили жалкие клочки резерваций. А как вели себя британцы в азиатских колониях, также хорошо известно населению Новой Зеландии, которое полностью вымерло за 100 лет под шефством Британии (привет Джеймсу Куку).
Никому из «цивилизованных» завоевателей и в голову не приходило предложить взаимовыгодный обмЕн. Как и во все времена, ими был совершен «взаимовыгодный» обмАн – и все ресурсы несчастных коренных народов оказывался у алчных «цивилизованных» наций.
И все это – под знаменем христианского миссионерства: мол, надо показать необразованным народам, какая вера ведет в рай. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в «райский сад», коим местом «садовник» Жозеп Боррел назвал Европу.
В то же время «варварская» Московия разрешала башкирам сохранить свою религию. И это за 2 века до провозглашения Декларации прав и свобод человека!
Кстати, хочу заметить, что и сейчас модель мышления у «цивилизованных» стран сильно не изменилась. Когда выдохлась идея христианского миссионерства, была придумана новая идея – демократического миссионерства, направленная на насаждение идей демократии в мире всем без разбору. Следом постучалась в дверь новая затея – либеральная толерантность к геям и тренсгендерам. Уверен, в скором времени нас ожидают еще какие-нибудь новшества.
Думаете, они по-прежнему желают нам, необразованным народам, добра?
Руслан Низамов
Ссылка – это хорошо?
Но вернемся к истории города.
Уфимский кремль играл значимую роль, поскольку он был выдвинутым форпостом, через который проходили войска дальше в Зауралье и Сибирь, продолжая дальнейшее освоение сибирских территорий. Так расширялась и численность, и территория, и хозяйство. Изначально продовольствие для служивых людей привозилось, но потом земли вокруг кремля были розданы под земледелие. И крепость стала сама себя обеспечивать пропитанием.
Но в целом жизнь Уфы долгое время ничем не была примечательна. В следующий раз она была упомянута в связи со вселенскими событиями лишь спустя 2 века – во время Крестьянской войны 1773–1775 годов, когда выдержала четырёхмесячную блокаду и штурмы пугачевского войска. Кстати сказать, Уфа выдержала много набегов и осад в XVII–XVIII веках, но ни разу не была взята. Для примера, Париж повстанцы разных мастей брали много раз, даже неприступный Измаил один раз пал от рук самого Суворова. Повезло нам, что Генералиссимус сюда приезжал, но не брать город, а забирать из города известного повстанца – Емельяна Пугачева.
И вплоть до начала XX века Уфа оставалась малопопулярным городом в силу своей отдалённости от центра и близости других более важных городов – Казани, Екатеринбурга.
Но именно вышеупомянутая отдалённость служила причиной того, что город был «широко известен, но в узких кругах». Дело в том, что с конца XVI века Уфа использовалась как место политической ссылки.
И ещё одна немаловажная деталь. Часто ссыльными были образованные и культурные люди, «уголовников» в Уфу почти не ссылали. Уфимская ссылка не была пожизненной. Поэтому, как правило, в Уфу отправляли дворян, чиновников, штрафованных солдат и офицеров. В уфимской ссылке побывали Романовы, родня участника заговора против царя Петра I думного дьяка Шакловитого, причастные к декабристам, беглые французские военнопленные офицеры и т.д.
А иногда ссылали как на работу! Так, в 1605 году в Уфу воеводой был сослан Никита Васильевич Годунов – ясно, чей родственник. Получается, как в известном фильме: «А меня вообще в бухгалтерию сослали!»
Число политических ссыльных в Уфе увеличилось с конца XIX века. В Уфе отбывали ссылку народовольцы, участники рабочего и социал-демократического движения.
В 1897 году в Уфу был выслан Александр Дмитриевич Цюрупа, организовавший социал-демократический кружок. В ссылке в Уфе находилась Надежда Константиновна Крупская (1900). Именно с её помощью «в Уфе был создан опорный пункт революционного органа печати – «Искры», которая сыграла особую роль в организации партии большевиков» – читаем мы в статьях об этом. «Опорный пункт» звучит как-то слабовато на фоне того, что здесь происходило! Именно на уфимской станции передавались деньги на публикацию газеты, сами оттиски и статьи газеты и многое-многое другое. В итоге, царской охране так и не удалось обнаружить этот «опорный пункт», в результате чего «из искры возгорелось пламя» сами знаете какого масштаба.
В СССР Уфа продолжила быть местом ссылки интеллигенции. К легендарную в свое время, но страдавшую от всех режимов лидера левых эсеров Марию Спиридонову, которая даже будучи в ссылке не прекращала свою «вечную борьбу» с властью. Одна ее жизнь и деятельность в Уфе потянет на целую трагическую историческую поэму.
Для пущей важности скажем, что к нам были сосланы бывший президент ещё буржуазной Эстонии Константин Пятс со своей семьей, и даже художник Парижской академической живописи Ваган Шакарян. После ссылки в Сибири в Уфе побывал и великий русский писатель Анатолий Рыбаков, работавший на одном из уфимских предприятий.
Репрессии – это, конечно, плохо, но именно «интеллигентные» ссылки помогали Уфе приобретать культурные очертания.
Взять к примеру академика Матвея Кузьмича Любавского, ученика великого русского историка Василия Осиповича Ключевского, самого крупного ученого по истории заселения и освоения русским, украинским и белорусским народами пространств Европы и Азии. Последние годы жизни, проведённые в ссылке в Уфе, учёный посвятил разработке истории местного края и фактически стал основоположником изучения истории Башкирии.
Стоит вспомнить профессора Иосифа Сергеевича Киссельгофа, крупнейшего специалиста в СССР по Франции, ставшего в уфимской ссылке заведующим кафедрой всеобщей истории БГУ.
А о ссылке Степана Злобина вообще целая история набралась, да еще какая! О ней вы узнаете в третьем разделе сборника.
В общем, всех и не перечислить, как не перечислить их заслуг перед нашим городом! А мы и не будем перечислять, лучше посвятим им благодарственную оду:
Кому-то ссылка… на Урал… в Уфу…
А мы таким посыльным только рады!
Ведь были то отнюдь не конокрады,
Гонимые на каторгу, в тюрьму.
То были знаменитые умы
Своей эпохи, впавшие в немилость,
Но нам их ссылка очень пригодилась –
Добро пожаловать! Вам только рады мы!
Высокообразованный народ:
Профессора, чиновники, дворяне…
Своими знаньями делились с нами,
А жаждущий, он мимо не пройдет!
Свой вклад оставили и ссыльный Павел Кларк,
Цюрупа, Злобин, Крупская, Любавский…
Провинциальная Уфа, как франт заправский
В интеллигентный облачилась фрак.
Не ведавшая светскости Уфа,
Уездный город с кочевым народом,
Влекомая культурным этим кодом,
Вздохнула и очнулась ото сна.
Следующей знаковой вехой для города была Великая Отечественная война, потому что в этот период в Уфу перевозили не только людей, но и целые промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения. Самый известный пример – эвакуация Рыбинского авиамоторостроительного завода, история о котором потянет на целый военный триллер.
В первые месяцы войны днём приходилось имитировать деятельность завода, ведь над городом постоянно кружили самолёты-разведчики, а ночью шёл демонтаж тяжёлых станков и оборудования, по разборным железнодорожным путям из цехов вывозилось всё готовое к отправке имущество. «Часть станков отправлялась к вокзалу, где формировали эшелоны, по другой ветке их свозили на берег Волги и грузили на баржи. Утром к рассвету эти временные пути разбирали и заносили в пролёты цехов», – вспоминают о переезде из Рыбинска бывшие работники завода.
За 10 (!) дней с территории завода было вывезено всё до последней гайки, включая заготовки деталей. Работы были завершены в срок: 31 октября немцы начали бомбить предприятие, но в нём уже никого и ничего не было. Тысячи рабочих и служащих завода с семьями отправились в далёкий путь на Урал.
Выехав из Рыбинска, большинство заводчан вместо 10 дней добиралось почти 2 месяца. Те, кто был отправлен на баржах по Волге, в ноябре, когда реку сковало льдом, вынуждены были добираться пешком до ближайших станций и деревень. А те, кто ехал поездом, сутками стояли на запасном пути, пропуская вперёд эшелоны, идущие на фронт. Причём люди оказались без тёплой одежды (многие не ожидали таких холодов), без запасов продуктов питания, были лишены самого необходимого.
Оказавшись в Уфе, после необходимой санобработки и непростой процедуры расселения, они сразу же приступили к монтажу оборудования, обустройству цехов и выпуску моторов для боевых самолётов. Эту продукцию ждали на фронте советские лётчики. К концу войны Уфимский Моторный Завод выпустил более 97 000 моторов для истребителей и бомбардировщиков. По статистике на каждом третьем боевом самолёте стоял уфимский мотор. За трудовые подвиги Уфимский моторный завод был удостоен Знамени Государственного Комитета обороны.
В передислокации завода и восстановлении производства на новом месте всего за 6 недель, огромную роль сыграл человек железной воли – Василий Петрович Баландин. Уже в августе 1941-го его назначили генеральным директором трёх моторостроительных заводов: Ленинградского, Уфимского и Рыбинского. До конца Великой Отечественной войны Василий Баландин совмещал две должности – директора завода и заместителя министра авиационной промышленности.
Разумеется, эвакуированным и местному населению пришлось в годы войны невероятно тяжело: голод, катастрофическая нехватка продуктов, тёплой одежды и обуви, страшная теснота в домах и квартирах, куда подселили приезжих вместе с семьями. Само собой, лишнего жилья в городе не имелось, такого наплыва переселенцев в Уфе никто не ожидал. Но люди терпели все эти лишения и невзгоды ради единственной цели – Победы. И только в 50-е годы рыбинцы получили возможность вернуться домой. А многие из них так и остались в Уфе10.
В годы Великой Отечественной войны в Уфу были эвакуированы не только промышленные объекты, но и культурные. Одним из самых важных событий стала эвакуация летом 1941 года Киевского государственного театра оперы и балета им. Тараса Шевченко. В составе эвакуированной труппы были народные артисты СССР и Украины Зоя Гайдай, Мария Литвиненко-Вольгемут, Иван Паторжинский, балетмейстер Николай Сергеев, композитор Филипп Козицкий, дирижер Владимир Йориш и др. Художественным руководителем и главным режиссером труппы был народный артист СССР Николай Смолич.
Также в Уфу были присланы артисты театров Белоруссии и Чувашии. Опытные именитые мастера сцены вывели молодой театр столицы Башкирии (Башкирский государственный театр оперы и балета был открыт в 1938 году) и Башкирской государственной филармонии (открыта в 1939 г.) на новый уровень. Это было удивительное время, полное самоотверженного труда и настоящей дружеской взаимопомощи. Коллеги из оккупированных фашистами территорий нашли в Уфе не только возможность работать по специальности, но и разделили тяготы военного времени. Они работали в концертных бригадах в госпиталях, на предприятиях и на фронте, после рабочего дня женщины в подвале театра отстирывали бельё из больниц, помогали, чем могли.
И хоть эвакуированный Киевский театр пробыл в нашем городе лишь год с небольшим, но память об этом была настолько яркой, что была написана книга «На земле друзей» о жизни артистов, писателей, ученых Украины в годы войны в Уфе. Вдумайтесь в название этой книги! Да, были же такие времена!
Виктория Резяпова / Виктория Симонова
Объединение – это точно хорошо
После Великой Отечественной Войны Уфа стала интенсивно восстанавливаться и развиваться, и где-то к 1980 году вошла в состав городов-миллионников. Только с 1945 года ее численность увеличилась в 3 раза. На это поваляло послевоенное бурное развитие моторостроительной и нефтяной промышленности, сыгравших важную роль в победе в Великой Отечественной Войны, что в конечном итоге привело к объединению 2 городов: Черниковска и, собственно, самой Уфы.
Но если история Уфы более-менее освещена в исторических летописях и представляет собой логическую цепь событий, то Черниковск, можно сказать, появился «как чертик из табакерки». Действительно, хотя история деревни Черниковка и уходит корнями в далекий XIX век, до середины 1930-х годов о ней не было совершенно никаких интересных сведений.
Как же так получилось, что из простой деревни, в которой в 1926 году числилось 25 домохозяйств, вырос город с населением 215 000 человек к моменту объединения, то есть к 1956 году?
Причина кроется в простом слове – индустриализация. Оно может показаться кому-то неактуальным и попахивать чем-то старомодным, ведь это гордость уже канувшей в лету советской эпохи. Но именно индустриализация – основа того, что я называю советским экономическим чудом. Нигде и никогда в мире не строилось столько заводов, фабрик, так бурно не развивалась наука и социально-культурная жизнь, как именно в эти времена в СССР. В этом свете уже никак не скажешь про Черниковку, что «о ней не было совершенно никаких интересных сведений». Напротив, ее можно смело назвать эпохальным срезом мощи советской эпохи.
Судите сами. Здесь начали строить множество заводов: Уфимский моторный завод (позже – УМПО), Лесопильный и Фанерный завод (позже – Уфимский фанерный комбинат), Уфимский крекинг-завод (позже – Уфимский нефтеперерабатывающий завод) и т.д. В связи с этим на месте маленькой деревушки в 1931 году был основан рабочий посёлок Черниковка. Уже в 1936 году он вошёл в состав города Уфы как Сталинский район с населением более 20 000 человек. В 1939 году его численность составляла уже 49 000 человек, а в 1944 году район вышел из состава Уфы и был преобразован в отдельный город Черниковск. Впрочем, в 1956 году он вернулся в состав Уфы, теперь уже окончательно.
Такие метания нельзя назвать спонтанными. Они имели вполне себе объективные основания. Одна из них – уже упомянутая топовая среди российских городов протяженность с севера на юг. Дело в том, что черниковские заводы располагались в северное части, а горком и горисполком Уфы – центры принятия решений – находились в противоположной южной части. Это сейчас преодолеть расстояние с одного до другого конца города не представляется затруднительным, а в те годы транспортное сообщение между северной и южной частями города было, мягко говоря, неудовлетворительным. А решать вопросы нужно было ежедневно, оперативно и в огромных количествах, ведь шла война, а все заводы только начали образовываться, поэтому было много нештатных ситуаций. Поэтому, пусть и с опозданием, но в 1944 г. было принято решение выделить Черниковск в отдельной город со своим центром принятия решений.



