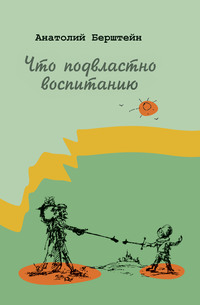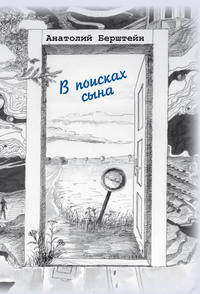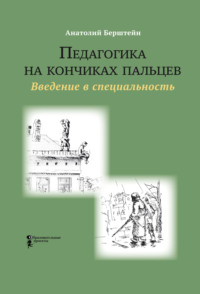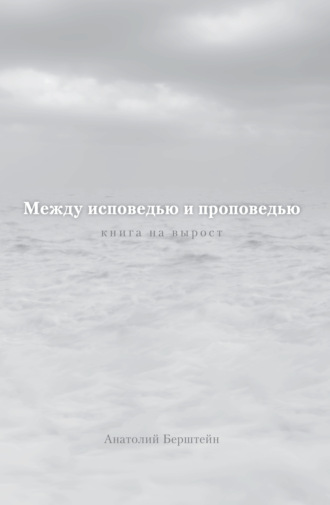
Полная версия
Между исповедью и проповедью. Книга на вырост
Очень часто, когда я высказывал что-либо критическое или скептическое, говорил, что, на мой взгляд, надо сделать или не делать, меня всегда спрашивали и спрашивают – «КАК?» И я всегда затрудняюсь с ответом, потому что не «технолог» и в технологии не верю, пока нет понимания, ЧТО не так и почему, пока не установлены причинно-следственные связи и не расставлены приоритеты. Уютные и современные парки способствуют смягчению нравов, «Москва похорошела», цивилизованное пространство дисциплинирует, но интонация – «из другой оперы».
А в тренинги я не очень верю.
Норма, или Жизнь на цыпочках
Нормальный человек – тот, кто, живя в своём мире, понимает, что их, миров, бесчисленное множество, легко, однако, сводимое к двум – его миру и всем прочим. Он знает, что любое его или чьё-либо действие, слово или соображение, сколь бы очевидным оно ни казалось, всегда будет иметь по крайней мере два смысла. Иначе говоря, нормальный человек знает двусмысленность человеческого существования, своего в первую очередь, двусмысленность, не сводимую ни к чему одному и единственному.
Александр Пятигорский. «Философия одного переулка. Древний Человек в Городе»Покажите мне психически здорового человека, и я вам его вылечу.
Карл Густав ЮнгЧто есть норма? Тяжелейший и один из самых востребованных вопросов. Автор первой цитаты, блестящий и неповторимый философ Александр Пятигорский, производил впечатление вполне сумасшедшего. То, что нормально для одного, совершенно ненормально для другого. Так есть ли общие критерии нормальности? Думаю, что тоже нет. У каждого есть своя шкала норм и определение нормальности. Как у разных людей, к примеру, разный порог чувствительности к боли.
Особенно трудно определить нормальность в культуре. «Ненормальное искусство» со временем становилось классикой. Всё самое выдающееся придумали, скорее всего, не самые нормальные люди на земле. Зато нормальные лучше всего могут всем этим пользоваться, хотя создавать у них получается намного хуже.
Другое дело, чтобы как-то упорядочить жизнь, люди придумывают правила общежития, традиции, общие моральные критерии. И нормой становится то, что принято в тех сообществах, в которых ты находишься. В обыденной жизни, на войне или в тюрьме нормативы различны.
Итак, норма социальна и субъективна – порой это создаёт проблему. Особенно, когда нормы пытаются навязать: что большинство меньшинству, что меньшинство большинству, начальник своим подчинённым и так далее.
Можно ли при этом сохранить свои, личные нормы и следовать им, невзирая на общепринятые? «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», – писал Ленин. А он не всегда был не прав. Тем не менее, внутри себя мы всё равно имеем личную нормативную шкалу, которая равнозначна ценностной. Если мы теряем эту «двусмысленность человеческого существования», то теряем часть нормальности – социальную или персональную. Никакой идеал не может стать нормой. Это как в СССР: был план – 100 процентов, его, случалось, перевыполняли, и тогда уже рекордные, к примеру, 110 процентов становились нормой. (К слову: поэтому план старались выполнять, но не перевыполнять.)
«Норма в идеале» – это всегда претензия на перевыполнение плана, постоянная жизнь на цыпочках.
У каждого свой «чердак» и свой «подвал». В смысле, свои плановые нормативы – высшие и низшие. У меня пониженная температура тела – для меня это норма. У кого-то пониженное давление – здоровое, нормальное состояние, а если повысится до общепризнанной нормы – криз. «Нормально» всегда по вкусу – соль, перец и так далее. Кому война, кому мать родна. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Кому-то жизнь в определённых безнравственных, антиэстетических обстоятельствах невыносима, другим, как сегодня принято говорить – «норм».
Обыкновенный человек для нового порядка
Монолог члена Партии Среднего человека: «Люди созданы, чтобы жить вместе, чтобы обделывать друг с другом дела, беседовать, петь вместе песни, встречаться в клубах и в лавках, на перекрёстках, – а по воскресеньям – в церквях и на стадионах, – а не сидеть в одиночку и думать опасные мысли».
Владимир Набоков. «Под знаком незаконорождённых»Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.
Артур ШопенгауэрКогда внук был подростком, на очередной мой монолог, что надо стремиться стать лучшей версией себя, он ответил: «Я же обыкновенный мальчик». О, всю его последующую жизнь я ему этого «обыкновенного мальчика» припоминаю. Притом, что уже тогда он вряд ли хотел быть обыкновенным, но боялся сознаться в своих амбициях – вдруг что не получится, вдруг поймут не так. Его амбиции росли прямо пропорционально его неуверенности.
Кто такой обыкновенный человек? Это не «простой, мирный, скромный обыватель», не тот, кого Бог обделил какими-то необычными способностями, не тот, кто остановился где-то на полпути по карьерной лестнице, а кто больше боится, что его заметят, чем, наоборот, не заметят. (Хотя, часто бывает, как сказал уже взрослый внук, «человек прячется, чтобы его нашли»).
«Обыкновенный человек» – средний человек, усреднённый: человек массы, толпы, его кредо – быть как все и не выделяться. Это не человек «золотой середины». Средний человек – это психология, а не отметка роста. Он доволен среднестатистической ролью. Ширпотреб. Всегда в ходу. Он человек стаи. И чувствует в ней свою силу.
Средний человек – это тот самый обыватель, который сложности жизни, сложным обществам предпочитает простоту гладкости гальки. Он быстро устаёт от «анархии» и личной ответственности и хочет, даже требует порядка. И если хаоса действительно много, а государство, сами люди-граждане, с ним не справляются, порядок-таки приходит и побеждает. И именно средний человек и становится олицетворением этого «нового порядка».
Философия трудных времён
Гораздо важнее, чтобы ты сам познал себя, нежели тебя познали другие.
Луций Анней СенекаРазум, неподвластный неистовым страстям, лучшее убежище для человека, ибо нет крепости более неприступной, где можно укрыться и найти спасение.
Марк АврелийВнук, пролистав «Западную философию» Бертрана Рассела с моими пометками, обратил внимание, как их много в главе про стоиков. Отсюда сделал вывод, что и я стоик. В смысле, мне близки их взгляды.
Мне действительно нравятся стоики – их космополитизм, их стремление к осмысленному сохранению себя, своего духовного начала; их разумность, целеустремлённость, мужество, «философское», спокойное отношение к смерти. Я уважаю стоиков. Единственно, мне не близка их суровость – слишком сильные, они не проявляют сочувствие к слабости. Да и разум слишком абсолютизируют, подчиняя ему эмоции и чувства, достигая душевного равновесия и внутренней свободы за счёт разумного контроля всего и вся. И я не стоик – потому что не готов во что бы то ни стало идти до конца, вплоть до самопожертвования. Мне не нравится, или я просто не готов к этому «во что бы то ни стало».
Сегодня философия стоиков, в определённом смысле, актуальна и востребована, так как её называют иногда «философией трудных времён». Она акцентирует внимание на рациональном подходе к жизни и внутреннем спокойствии. Очень близка к известной молитве – принять неизбежное, обрести смирение, не браться за то, что невмоготу, рассчитывать силы – помогает справиться с неопределённостью и выстоять.
Я слышал, что стойкость часто уподобляют некоторой устойчивости. Для меня стойкость и устойчивость – немного разные вещи. Стойкость – это когда стоять трудно, но ты стараешься, терпишь, преодолеваешь и… выстаиваешь. (Не в очереди – там нужно терпение). А устойчивость – некий навык что ли, свойство, способность, тоже, в некотором роде, вид разумного поведения.
Ещё одна важная вещь: стоики жили по своим принципам, а не просто их декларировали. Жили и умирали, оставаясь приверженцами своих идей. Недаром их кумиром был Сократ.
Смирение для жизни
Давным-давно, читая «Бойню № 5 или Крестовый поход детей», я познакомился со знаменитой молитвой: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что могу, и мудрость – всегда отличать одно от другого». Потом неоднократно слышал её по разным поводам и сам иногда повторял для других.
Но как бы это правильнее сказать? Надо много раз нарушить эти желанные правила жизни и так устать от этого, чтобы в один прекрасный день проснуться и окончательно понять – пора не только произносить правильные слова, но и им следовать.
Для меня самое тяжёлое – не в том, чтобы найти в себе мужество что-то менять, и даже не в том, чтобы приобрести мудрость и не наступать на грабли. Тяжелее всего обрести душевный покой и смирение. Даже с мыслью, что ты чего-то не можешь, очень трудно смириться. Тем не менее, из общих предметов «базового профиля» в школе жизни «Учение о смирении» – один из самых обязательных. Смирению надо учиться хотя бы уже для того, чтобы, когда придёт время, суметь достойно примириться со смертью. Но главное, его надо освоить для жизни.
Лично я давно устал от пирровых побед и от донкихотства. Устал бороться против несправедливости, пошлости и хамства. Бороться и переживать. Переживать за каждую услышанную на улице грубость, увиденную в интернете жестокость, очередное встретившееся на пути разочарование. Но окончательно примириться с несовершенством этого мира всё равно очень трудно. Но приходится. А этот пост, который может показаться проповедническим, скорее, самовнушение.
Хотя это не означает отказ от идеалов. Особенно, пока ты молод. Идеалы указывают вектор развития, помогают преодолеть земную гравитацию, обрести смысл. Другое дело – идеализация жизни, то есть приписывание ей свойств, которыми она не обладает, обман зрения, самообман. Идеалы и идеализированный взгляд на мир – не одно и то же. Можно любить летать, но не пытаться научить весь мир полётам наяву.
И конечно же, прекратить всё время вопрошать себя и окружающее пространство: «Как же так?», «Как так можно?». Можно. А вот переделать всё и всех невозможно. И не надо даже пытаться. Глупо воспринимать дурные поступки других как личное оскорбление. Нельзя вечно бороться с мировой несправедливостью. Это часть жизненного интерьера, реальный, а не придуманный мир, среда обитания. Никто не заставляет её любить. Но не надо её ненавидеть. Не надо пускать в своё сердце отчаяние и страх. Нельзя тратить всю энергию только на переживания и борьбу со злом.
Лучше заниматься собой. И по мере сил облагораживать мир вокруг себя. В конце концов, есть масса таких дел, к которым надо приложить руки. И много-много людей, которые ждут, чтобы мы открыли им своё сердце.
PS. Как сформулировал вчера, после избрания Трампа, мой друг: задача на ближайшее время быть реалистом, но не стать циником. («От себя добавлю: на всех широтах».) Задача вполне стратегическая.
Я – «возможнист»
Могущество Человека возросло во всех областях, но не распространилось на самого человека.
Уинстон Черчилль. «Нобелевская речь»Я заметил, что когда – редко – «улыбался» в том или ином посте в соцсетях, сердечек под ним становилось в два, в три раза больше. Людям хочется света, радости, улыбок, оптимизма. Это так естественно. Лично я всегда любил и люблю фильмы со счастливым концом, хочу, чтобы добро побеждало, зло было наказано, и чтобы в конце туннеля появился свет. И не стесняюсь этого.
Борхес писал: «Мы так бедны отвагой и верой, что видим в счастливом конце лишь грубо сфабрикованное потворство массовым вкусам». А зачем другой «The end»? Кино же мираж, иллюзия, а не реалити-шоу. Или пусть будет хотя бы открытый финал, когда сохраняется надежда – герой не погиб, друг не предал, он всё ещё её любит…
Я назвал свой телеграм-канал «Хронические вопросы», и зачастую даю «хронические ответы». И они, честно говоря, далеко не всегда вселяют оптимизм. Напомню своё кредо: «Пессимизм разума и оптимизм воли». Мне не хочется делать что-то против, вопреки своему разуму. Но я хочу, чтобы и во мраке он улавливал светлые проблески, свежий ветерок, искал выходы. Я люблю светлых людей. И это совсем не значит, что весёлых, не говоря уже про тех, о которых говорят, что «смех без причины – признак дурачины». И не тех, кто вечно «на позитиве», а светлых внутри: может быть, внешне «мрачных парнишей», но у которых душа светится. И, если всё же меня спросить, оптимист я или пессимист, отвечу, как сказал один известный американский экономист: «Я возможнист».
Я верю в возможность лучшего и не фаталист неудач и катастроф. Вот и Харари предлагает «первым делом снизить накал апокалиптических пророчеств и от паники перейти к удивлению». Почему? Потому что «удивлению свойственна бóльшая скромность, а, значит, и бóльшая проницательность». После чего предлагает: «Попробуйте сказать себе: на самом деле я просто не понимаю, что происходит».
Имена и даты
У нас, гуманистов, почти у всех есть педагогическая жилка. Историческая связь между гуманизмом и педагогикой указывает на их психологическую связь. Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей. Её просто нельзя отнять у него, ибо только он может передать молодёжи идеи человеческого достоинства и красоты.
Томас Манн. «Волшебная гора»
Мы слушали Битлз
Помните, как начинается «История любви» Эрика Сигала: «Что можно сказать о двадцатипятилетней девушке, которая умерла? Что она была красивой. И умной. Что любила Моцарта и Баха. И Битлз. И меня».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.