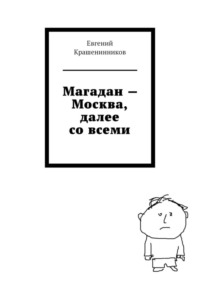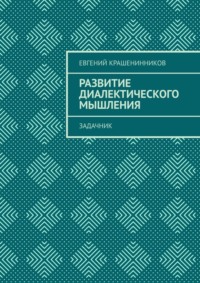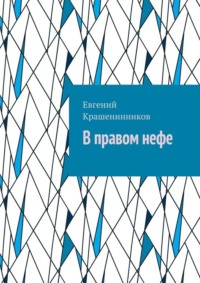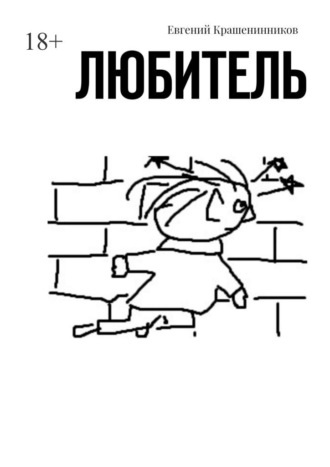
Полная версия
Любитель
Ну и про Кузяева Валентина, видимо, из тех же двух источников: википедия (или любой киноинформационный ресурс) и свой вопрос – про то, что хочешь там найти.
Увы, чаще всего мы смотрим три вида фильмов:
те, что выходят сейчас (а значит рекламируются и на слуху);
те, что несём навсегда из детства и юности;
те, что показываются регулярно и постоянно, так как общелюбимы.
Это нормально – это помогает общаться.
Но у нас есть семейный мем: когда мы садимся смотреть с детьми какой-нибудь фильм (обнаруженный с помощью тех самых двух источников), то я говорю: «Сейчас ты посмотришь кино, а потом проживёшь много-много лет и за всю жизнь ни разу не встретишь человека, с которым сможешь про этот фильм поговорить».
(Нет, конечно, бывает всякое. Когда много лет назад в одной из социальных сетей я разместил в списке двухсот любимых книг подаренного мне Хориным «Пана Халявского», откуда-то вдруг возникла неизвестная мне женщина с радостным кликом: «А я думала, что я только одна читала!!»).
Я пока ещё не встречал людей, смотревших первый фильм Ильи Авербаха по сценарию Натальи Рязанцевой. То есть наверняка я их встречал (питерские? ведь наверняка?!), и мы, возможно, разговаривали о чём-то глубоком и важном, но ведь глубокого и важного так много (равно как поверхностного и суетного), что Кузяев Валентин нам собеседником не стал.
А это прекрасное кино про людей, которые не умеют разговаривать – потому что никогда не сталкивались с вопросом. А когда вопрос возникает, то так трудно не отвечать на него хором то, что подразумевается спрашивающим, а начать думать, что же это означает для тебя самого.
Цвет граната (1968)
В середине 90-х у меня на кухне стоял на столе телевизор с маленьким экранчиком. Наверное, «Сапфир». Телевизор был, разумеется, чёрно-белым. Вечером, когда все уже ложились, я иногда смотрел на кухне кино. Чтобы не мешать ближним спать, звук включался минимальный – на грани слышимости.
Иногда это очень помогало. Например, «Кошмар на улице Вязов» в чёрно-белом и практически немом варианте на экране с тетрадный лист оказался не страшным. Вернее, не таким страшным, каким и представить себе не могу, если бы…
И «Тени забытых предков» я смотрел точно так же. Полностью погруженный в маленький экранчик, затягиваемый происходящим – и мир фильма был насыщен цветом, звуком, заполняя всё пространство не только кухни, но и окружающего мира.
Потом был «Ашик-Кериб» – уже в цвете. Но это было не важно. Вернее, не так – конечно, для Параджанова цвет важен.
Но если бы цвета не было, он всё равно бы создал насыщенное цветом, и, если бы не было звука, фильм всё равно звучал бы.
Как целостны и совершенны, цветны и звучны его «чеканки» из ничего – выдавленные на кефирных крышках на зоне. А ведь каждый ребёнок разглаживал такие крышки и пробовал что-то на них изобразить – просто так. А Параджанов создал из них искусство – тоже просто так – потому что ребёнком и был. Со взрослой болью в сердце.
Я не знаю, что такое «Цвет граната».
Я не могу порекомендовать его, если меня спросят, какое кино бы посмотреть.
Мы же не говорим, что репортажная съёмка в теленовостях – это кино, хотя с точки зрения Люмьеров это будет фильмом самым наиестественнейшим. И ничтожный блокбастер с суперкомбинированными съёмками не отнесём к киноискусству, хотя как раз он демонстрирует возможности, которые позволили Мельесу окончательно (на некоторое время) развести кино и театр. И немое кино – это, конечно, другой вид искусства, сколько бы его ни объединяло со звуковым наличие движущейся картинки.
И «Цвет граната» – это не кино.
Я не знаю, что это. Это не живопись средствами кинокамеры, хотя Параджанов наслаждается кадром как картиной. Но в том-то и дело, что здесь не статика, а пауза в непрекращающемся движении.
Это не красота ради красоты, потому что у него красота включена в трагедию, любования которой нет.
Параджанов придумывает детали, из которых рождается неожиданное потрясение открывшимся миром, и придумывает мир, в котором любая незначительность обретает смысл.
И главная проблема: вся эта высокопарность вышеизложенного мной – всего лишь от моей собственной бедности. А Параджанов прост и чист в своём кинематографическом языке. Просто он первым догадался, что границ у кино нет вообще, а глубина кадра рождается из глубин создателя. Которым может стать и зритель. Если перестанет думать, что смотрит фильм.
Тень (1971)
Когда я смотрел фильмы-сказки, то ключевым критерием для оценки была способность автора создать волшебный мир. И поэтому снимавшие русские народные сказки сразу оказывались в тяжёлом положении (если бы представить, что их интересовало именно моё конкретное зрительское мнение). Потому что им сразу хотелось показать ширь русской природы: леса, поля и перелески, долины рек и озёра, просвечивающие сквозь деревья – и уже туда вместить богатырей и прочих Алёнушек.
Но дело в том, что я всё это видел в реальной жизни! Ну, наверное, на вертолёте не летал над сибирскими реками (точно не летал), но и поля в тумане, и колышущиеся ветви берёз, и зелёный блеск болота и солнечные блики среди ветвей, и мшистые камни – всё это я видел и в Рязани, и в Магадане, и из окна поезда до Пятигорска или Ивано-Франковска. И поэтому, смотря на экран, я не верил происходящему: какая ж тут сказка, когда всё происходит в реальности. При этом возможный эффект, когда окружающая реальность начинает восприниматься, как сказочная, тоже не возникал: только ряженые артисты в обыденной обстановке, притворяющиеся Иванами-царевичами. И именно поэтому чёрно-белый «Кащей-бессмертный» впечатлял больше, потому что мир вокруг меня не был чёрно-белым.
А вот когда режиссёру (а ещё и оператору – и, конечно, художнику) удавалось снять так, что ничего знакомого я не мог увидеть, то можно было полностью погружаться в сказку. Есть в «Городе мастеров» лес? Да. Пустой, голый, без неба, без перспективы. Замечательно. А всё остальное действие в антураже средневекового города. Наверное, жители Таллина всё это воспринимали по-иному, так как бои мастеров и захватчиков происходили на знакомых им улицах; а, может, музыка Каравайчука, насыщенный цвет костюмов и декораций и великолепно подаваемые возгласы «Победа и Вероника!», «Долой иноземных шолдат!» или «Умер-р-р проклятый метельщик!!» уносили в придуманную реальность даже тех, кто регулярно пивал хигвейн в подвале «Толстой Маргариты» (если предположить, что 1965-м году такое могло быть). Хотя старый Таллин сам по себе вырывает из обыденности, хоть ты там десятки лет протирай подошвами камни мостовой. А Ролан Быков решил в «Айболите-66» проблему вообще радикально, сразу показав, что он не африканские пейзажи будет нам демонстрировать, а дурачиться, вырезая их из картона – и так, что потом реальная вода, песок и деревья казались созданными фантазией художников.
И Надежда Кошеверова в «Тени» создала мир полностью; ничего из реальности. Даже, когда герои едут в поезде в сказочный город, то за окном нет никакого пейзажа с липами, стогами и какими-нибудь бурёнками; и сам поезд, когда его показывают со стороны, пробегает на насыщенном, однотонном, нереальном голубом фоне без малейшей примеси облачной белесоватости. И поэтому с первой же минуты ты знаешь: тебя не обманули; это не повседневность, притворяющаяся сказкой – это сказка и есть.
И вот именно в этом случае после завершения фильма, осмотревшись кругом, можно заметить волшебное: ну раз там всё было настоящее, то, может, оно есть и вокруг нас.
День за днём (1971—1972)
Ну вот как начать писать про любовь?
Проще всего рассказать, как было дело.
После школы мы все разъехались по разным городам. Такова судьба магаданских дружб в доинтернетовскую эпоху: Бровкин уехал в Нижний, Масленников в Уфу, Земляк в Харьков, мы с братом остались в Магадане; и все понимали, что, возможно, не увидимся никогда. Ну или встретимся лет через десять для портвейна и «а ты помнишь…» (Я тогда портвейн не пил, но всячески участвовал). И письма… но они же – и так редкие – закономерно становятся всё реже.
А про что в письмах писать? Про то, как законспектировал главу из учебника по истории КПСС? Или про то, что повстречал Бзо, а Третьякову с Ночевной давно не видел? А Земляк с Бровкиным вообще никого и видеть не могли в своём Зауралье…
Так что – о фильмах, о книгах.
Я читал Достоевского. Бровкин – Анчарова. Я не знал, кто это (Бровкин про Достоевского знал). Как пересказать чтение? Но я точно понял, что Анчаров – нечто необычное.
А потом была армия, Польша, какой-то слёт солдатских комсомольцев в Свиднице, и там в книжном ларьке я увидел нетолстую зелёную книжку, автором которой значился Анчаров. Не тот ли? Книжку я купил, чем заинтересовал ефрейтора Тазова – водителя из своего экипажа (фамилия, разумеется, была иная). Видимо, его удивил сам жанр – книга. Он открыл первую страницу (ну то есть пятую – как обычно в книгах) и прочитал:
«…В феврале, 13 апреля 1977 года я перестал летать».
– Это – что? – спросил он меня. Я ответить не смог. Тогда Тазов опять вернулся к чтению. В книге был пробел, а через пустую строчку следующее предложение (опять начинающееся с многоточия):
«…Сказочки придумывают от обиды на жизнь. Я реалист».
Он помолчал, посмотрел на меня и прочитал – а он читал вслух —следующее предложение (опять написанное через пустую строку):
«Медсестра мне рассказала:
…Посреди площади нашего городка возник огненный столб, и голос, грому подобный, произнёс: «Идёмте все в консерваторию. Кто колеблется – идти или нет, выбор один – идите вперёд».
– Это – как? – спросил Тазов у меня. Но так как я и на первый вопрос ответить был не в силах, то ефрейтор закрыл книгу, засмеялся, и пошёл жить.
После такой интермедии грех было бы не прочитать всего, что написал Михаил Анчаров. И не потому, что у него февраль в апреле. А потому что Анчаров – редчайший писатель, у которого в книгах живут нормальные люди. Хорошие люди живут у многих. Хорошие, которые умудряются изгадить жизнь себе и ближним; хорошие из серии «я добрый, но добра не сделал никому» («Но я же так желал всем добра!» – а за спиной сцена, залитая кровью, как у Фёдора Иоанновича, или более бытовые обиды окружающих, отторжение детей и бессмыслица следующего дня).
А у Анчарова в книгах люди здоровые. Их спрашивают – а они отвечают. Их спрашивают: «Хочешь колбасы?» О, сколько тут возможных вариантов ответов, виляний плечами, обозначающих «нет, но, конечно, да, но не скажу, но сами догадайтесь, но вообще-то не люблю на самом деле, хотя бы съел…». А его персонажи отвечают: «Да». Или отвечают: «Спасибо, не хочу». И отвечают так, что никому в голову не приходит их переспрашивать: «А, может, всё-таки хочешь?» И никто не оскорбляется, что вы нас объели, или вам наше угощение, что ли, не по нраву?
Потому что они отвечают просто, искренне, то, что думают – а думают они при этом не глупо. Понятно, что речь не о колбасе. Просто там обычные люди; обычные – в лучшем смысле этого слова; когда не задаёшься вопросом, а какая у них профессия, а каковы его достижения, а престижный ли образ жизни он ведёт. Обычные, нормальные люди, цель которых не продемонстрировать свою исключительность, привлечь к себе внимание, а потом недоумённо вопрошать, а что вы меня тревожите; цель которых – полноценно жить, украшать свой конкретный окружающий мир и делать добро людям.
И семнадцать серий «День за днём» про таких же людей. Рядом с которыми и другим хочется быть нормальными, а не особенными. Анчаров неизменно удивлялся, когда его упрекали, что в фильме жизнь коммунальной квартиры показана не реалистично: мол, люди там обычно и ругаются, и на ноги наступают, и туалет занимают надолго, и из чужой кастрюльки борща себе отливают. Анчаров недоумённо оправдывался: да я в курсе, конечно; но я же про другое…
А от его песни «Баллада о парашютах» и до сих пор каждый раз мурашки по коже. (Это не в фильме, это ещё одна его грань).
На всякий случай, для любопытствующих читателей: текст был про любовь к Михаилу Анчарову, столетие со дня рождения которого отмечается сегодня.
…Ну, я отмечаю.
Осень (1974)
У меня накопился множественный опыт просмотра хороших фильмов с разными людьми в домашней обстановке (не обязательно дома; главное, что не в кинотеатре, где обычно принято молчать, а в таких условиях, где можно обмениваться репликами). И есть одна категория зрителей (достаточно значительная), которая очень хочет понять все мотивы поступков персонажей во время совершения ими этих поступков. Желание это похвальное; но приводит оно к интересному времяпрепровождению. Человек смотрит несколько минут на экран, потом поворачивается ко мне (или иному созрителю) и спрашивает:
– А почему он так поступил?
Или:
– А что он хотел этим сказать?
Или:
– А… это… что это?.. Это… в смысле… э-э…
(Последний вариант обычно возникает в отношении фильмов Параджанова).
И ждёт ответа. Ты начинаешь полушёпотом отвечать; содиванник удовлетворяется, оборачивается к экрану – а там же уже прошли события, там что-то изменилось! Поэтому через полминуты он опять поворачивается с вопросом примерно той же тематики, но уже ещё более запутавшийся в происходящем.
Ставить на паузу – не выход; тогда вообще фильм развалится.
Откуда берётся это иллюзорное ожидание, что надо и можно сразу знать всё? Ведь в подавляющем большинстве случаев, когда мы общаемся с людьми, мы видим лишь маленький кусочек их жизни, вырванный из прошлого и настоящего. Вот пришли на день рожденья к друзьям; и у них ещё несколько гостей, которых мы видим впервые (одноклассники, сослуживцы, соседи). И эти люди говорят, хмурятся, смеются невпопад, реагируют на что-то. Но мы же ничего не знаем, про то, как собравшиеся общались раньше, изменяет ли гость своей супруге, пилит ли она его каждый день за то, что он мало зарабатывает свои сто тысяч, болеют ли они излечимой болезнью, поругались ли позавчера с младшей дочерью, были ли в поздней юности опыт чтения добрых книг и т. п. И ничего этого мы и не узнаем никогда – мы их не увидим больше. Но тогда и нельзя легко оценивать происходящее перед глазами.
А в кино мы видим полтора часа чужой жизни и хотим, чтобы всё было чётко и ясно: он её обругал справедливо, она терпит зря, а эти вообще ни за чем припёрлись.
Фильм «Осень» я лет пятнадцать никак не мог посмотреть. Вернее, смотрел его неоднократно, но никогда сначала, и никогда до конца, и не догадываясь, середина сейчас или эпилог. Просто первый раз я увидел его в середине 90-х в командировке, завтракая в номере, собираясь идти что-то там вещать работникам дошкольного звена. По телевизору шёл незнакомый мне фильм непонятно на какой минуте, и я понимал, что невозможно выключить телевизор и уйти. Но ведь работа. Так что увидел я всего минут пятнадцать-двадцать. И мне было достаточно этого, чтобы проникнуться жизнью героев и не спрашивать, а он ей кто, и «а почему они здесь», и где это «здесь» находится.
Тогда не было интернета, чтобы вбить программу телеканалов и узнать название. Да и показывать могли по кабельному. (Да-да, по кабельным каналам могли показывать не сериалы про убийц в погонах и без, ларьки на диване и битвы экстрасексов, а тонкое кино). И потом я регулярно попадал на этот фильм – никогда сначала, никогда до конца. Я понимал, что это он, хотя на экране мог быть не курящий Кулагин, а доящая корову Гундарева или вообще мужики в пивной. Потом я узнал название и то, что снял фильм Андрей Смирнов – тот самый автор «Белорусского вокзала», почему-то считающегося фильмом о войне. Но не было интернета – нельзя было нажать кнопку и посмотреть заинтересовавший фильм. А денег на видеокассету или прокат, возможно тоже не было. (Наверное, и я зарабатывал недостаточно много своих тысяч).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.