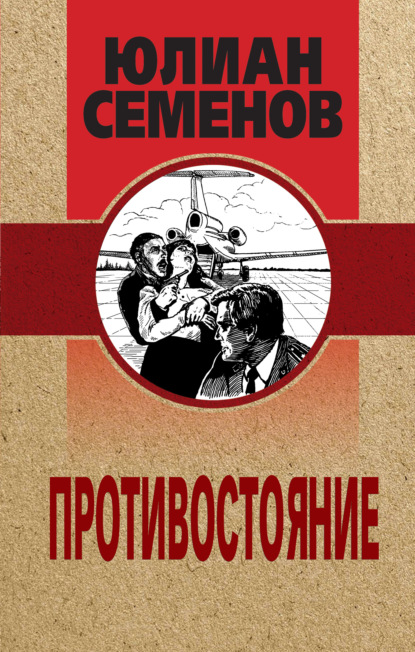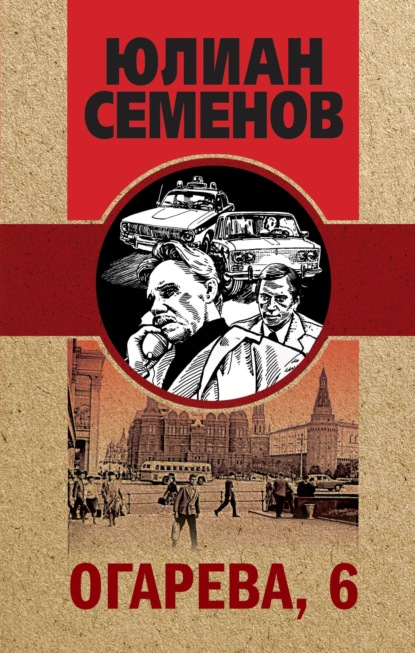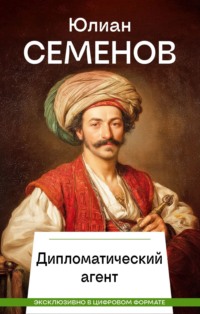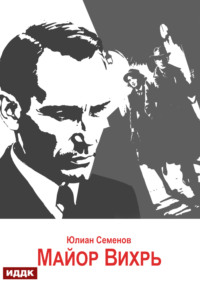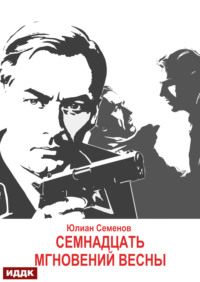Полная версия
Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен
«Все мы под богом ходим, – подумал Пожамчи. – Надо ж мне было воронцовской тетке в рост под изумруды давать?! Близкую выгоду всегда горазды видеть, а вот вперед заглянуть, там, где черненько все и костисто, – о том тщимся не думать – как кроты».
– Вы какой доход имели до революции? – спросил Литвинов.
– Доход? Я запамятовал. И в доходе ли счастье?
– Это верно. А в чем оно – счастье?
– Кто знает… – устало ответил Пожамчи. – Каждое счастье – разное, одинаковых не бывает.
– Тоже верно, – согласился посол и поднялся.
Пожамчи протянул ему портфель:
– Вот тут… Все… Вы будете принимать или кто из помощников?
– А что же принимать? – Литвинов пожал плечами. – Вы могли с этим чемоданчиком исчезнуть. С первой же эстонской станции.
Пожамчи снова похолодел и, угодливо посмеявшись, опасливо поднял глаза на посла. Тот не мигая смотрел на него, и лицо его, казалось, говорило: «Ну, выкладывай все, облегчайся, говори…»
– Почему? – невпопад спросил Пожамчи. – Зачем же уходить? Я и не держал такого в мыслях…
Он расстегнул портфель и, понимая, что делает совсем не то, что надо бы делать, высыпал на стол замшевые мешочки, в которых лежали камни и ожерелья. Он придерживал их жестом, свойственным всем ювелирам. Движение это было вкрадчивым и робким, но одновременно сильным, словно движение отца, который укачивает дитя.
Зеленые, сине-белые, красно-дымчатые камни легли на стол, и, – странно, отметил для себя Литвинов, – стол сразу же стал иным, тяжелым, и не светлым вовсе, а темным, вбирающим в себя загадочные высверки камней. Камни, казалось, только изредка вбирали в себя жухлые лучи солнца, и тогда холодно выстреливали граненым, переливным, звездным светом, и длилось это всего мгновение, а после солнце растворялось в молчании камня, и он, продолжая быть прежним, тем не менее становился иным – в таинственном, сокрытом от человеческого понимания качестве: он вбирал в себя свет навсегда – прочно и жадно.
– Любите камни? – услышал Пожамчи голос посла. Он услышал его глуховатый голос откуда-то издалека, и было противно слышать этот голос, потому что он был сух и обычен, а Пожамчи, разглядывая камни, всегда говорил шепотом – как в храме божьем.
– Как же их не любить? – ответил он. – Тут за каждым камнем – история.
– Вот этот, например, – спросил Литвинов, притрагиваясь пальцем к большому серо-голубому жемчугу. – Он же бесцветный и неинтересный…
– Жемчуг умирает, если не чувствует тела рядом с собою. Камень стал таким жухлым оттого, что пролежал пять лет в хранилище. Жемчуг относится к тому редкостному типу драгоценных камней, которые знают влюбленность. Вот смотрите. – Пожамчи положил камень под язык и замер. Он просидел так с минуту, потом достал жемчуг из-за щеки. – Видите? Камень начал розоветь. Его можно спасти. Он умрет лет через десять, если его не носить на руке, а держать в душном подвале. Вот эти бриллианты – из филаретовского хранилища. Бриллиант врачует сердце. Если, например, носить бриллиантовую заколку в галстуке, у вас никогда не будет сердечных болей… Эти изумруды из Саксонии, их в руках своих держал Фридрих Великий, шведский Карл, Петр Первый… А после они были в руках людей моей профессии – поэтому, верно, и сохранились; мы ведь молчуны – как все влюбленные…
Воронцов снимал маленькую мансарду на окраине Ревеля. Домик был деревянный; пахло в нем морем и шахтой одновременно. Хозяин, Ганс Саакс, плавал в Америку на «торговцах» и с тех далеких пор «заболел» морем: дома у него лежали просмоленные канаты, манильские тросы, вобравшие в себя таинственные, далекие запахи парусников прошлого века; топили дом, как и повсюду в Эстонии, сланцем, поэтому Воронцов, помогая Никандрову раздеться и сбрасывая свое легкое пальтецо, сказал:
– Располагайся, Ленюшка, я тебе уступлю свое лежбище, а сам устроюсь на полу, по-фронтовому.
– Я тебя стеснять не стану, Виктор, я в отель двинусь: там можно будет пресс-конференцию собрать, с издателями встретиться.
Воронцов как-то странно глянул на Никандрова, и легкое подобие усмешки изменило его лицо, и стало оно грустным и пронзительно-красивым.
– Ну-ну, – сказал он. – Денег-то у тебя сколько?
– Денег нет… Так, мелочь, долларов двадцать… Зато я привез рукопись нового романа.
Воронцов достал из маленького шкафчика водку, пару крутых яиц и круг ноздрястого, ярко-желтого сыра.
– О чем роман?
– О декабристах.
Лицо Воронцова замерло, и он негромко спросил:
– А кому здесь декабристы нужны?
– Ох уж этот скепсис российский!
– Ну-ну, – повторил Воронцов и разлил водку по стаканам.
– Граненые, – заметил Никандров, – как у твоего егеря в Сосновке.
– У Елизарушки, – сказал Воронцов, и лицо его потеплело, дрогнуло, – как-то сейчас старик? Любил он меня и верен был исступленной верностью – такая есть только у русских егерей. – Он отрезал два толстых ломтя сыра и добавил: – И жен.
– Но уж если они изменяют – и жены и егеря, – тоже по-русски: до одури и безжалостно.
– В том, что произошло с Верой, повинен я.
– Я не о Вере… Елизарушка первым твой дом в Сосновке поджег и коням глаза выкалывал… штопором…
– Этого быть не может, Леня. Сейчас невесть что про человека скажут – просто так, скуки ради…
Никандров видел Елизарушку, когда жил в соседней деревеньке, – обросший, седеющий, в рванье, – кто бы в нем тогда признал блистательного петербургского литератора! Он сам видел, как Елизарушка рвал на тощей своей, с выпирающими, угластыми ключицами груди рубаху и кричал: «Попили нашу кровушку, паразиты! Хватит!»
– Может быть, ты прав, – ответил Никандров, не желая делать больно товарищу, и впервые за все время внимательно осмотрел комнату Воронцова. Он увидел большие, расплывшиеся пятна на потолке, отошедшие, несвежие обои, плохо покрашенный пол; под ножку стола была подоткнута сложенная в несколько раз газета.
– Ну, за встречу, Леня.
Они молча выпили.
– Господи, как я завидую, что ты еще сегодня в России был…
– Не завидуй, Виктор. Ты здесь, у себя в ко… – Никандров осекся было, но Воронцов помог ему:
– В конуре, в конуре, ты не щади, Леня. В конуре. Как пес. Хотя мои псы в доме жили, под библиотекой, помнишь, ты раз там уснул на святки вместе с борзой… Как ее? Лизавета, кажется. Верно, мы ее из Джерри перекрестили… В конуре, Леня… Ну, еще? В угон хорошо ляжет стакашка.
– Погоди, продам роман, и махнем в Париж, там наших полно.
– В Берлине больше.
Они выпили еще по стакану. Воронцов длинноного, складно поднялся и, как все кавалеристы, легко ступая, пошел к двери.
– Я сейчас. Предупрежу хозяина, что вернемся под утро. У меня теперь хозяин. Я у хозяев живу, Леня.
Никандров почувствовал громадную жалость к этому лысеющему сероглазому человеку, владевшему в России поместьями, которые славились хлебосольством, широким – на английский манер – демократизмом, великолепным собранием живописи, библиотеками, а главное, тем редкостным духом доброжелательства и заинтересованной уважительности, который был чужд как нуворишам, так и бедневшим дворянам, которые всячески подчеркивали свое именно дворянское, но никак не аристократическое происхождение.
«А ведь великолепно держится, – думал Никандров, – потеряв все, что можно было, он сохранил самого себя, достоинство. Поэтому победит. Мы гибнем, когда вступаем в сделку с собою. За этим зорко смотрит царь-случай, выстраивающий свои загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла, безволия и напора, верности и предательства. Оступись – в себе самом, наедине со своим истинным «я», уступи злу хоть в толике – и ты погиб. И пусть после сделки с самим собой тебя ждет на какое-то время слава, признание и богатство, все равно ты обречен неумолимой логикой его величества случая, которому все мы подвластны, но понять который нам не дано. Он как бог. Его надо свято, духовно бояться; только такой страх может обуздать дьявола в человеке».
Спустившись к хозяину, Воронцов спросил:
– Ганс Густавович, позвольте воспользоваться телефонным аппаратом?
– Та, пожалуйста, только не очень толго…
Воронцов позвонил в редакцию газеты «Ваба сына» и попросил к аппарату господина Юрла.
– Добрый вечер, Карл Эннович, это Воронцов.
– Добрый вечер, граф.
– Сегодня из Москвы к вам прибыл писатель Никандров.
– Ко мне? – удивился ведущий репортер отдела искусства и хроники. – Я его не приглашал. Видимо, он прибыл к вам, а не к нам…
– Нет, с нами его связывать не стоит. Он вне политики, он – один из талантливейших писателей России. Я бы хотел просить вас прийти сегодня в «Золотую крону» – Никандров расскажет о том, что сейчас происходит в России.
– Мы в общем-то догадываемся, что происходит в России.
– Но вы получите самые свежие новости от писателя, который был вынужден покинуть родину.
– Понимаю, понимаю… Поить будете?
– Водкой напоим.
– Видите, какой я стал грубый материалист после того, как на вашей родине победили материалисты? – посмеялся Юрла. – Нельзя отставать от времени.
– К десяти ждем.
Воронцов опустил трубку на рычаг, потер сильными пальцами скулы и растянул несколько раз губы в гримасе яростного, беззвучного смеха.
В редакции двух русских газет – «Последние известия» и «Народное дело» – звонить было рискованно. «Последние известия» более тяготели к платформе кадетов, а «Народное дело» являлось органом социалистов-революционеров. Газеты эти не имели здесь веса, а Воронцову хотелось привлечь к Никандрову внимание не столько несчастной, безденежной, погрязшей в интригах эмиграции, сколько местной интеллигенции. Поэтому ни редактору «Последних известий» Ляхницкому, ни Владимиру Баранову, ведущему критику «Народного дела», Воронцов звонить не стал. А редактору Вахту он попросту звонить не мог – эсер ненавидел его.
«У нас всегда так, – подумал он, листая записную книжку, – когда иностранцы проявят интерес – тогда и свои зашевелятся. А если я сейчас стану нашим навязывать Никандрова – сразу начнут нос воротить: одни за то, что он был недостаточно левый, другие – за то, что не слыл крайне правым… Нет уж – пусть здешние о нем шум подымут, тогда наши начнут – без моей на то просьбы».
– Ян? Здравствуйте, – сказал Воронцов, вызвав следующий номер. – У меня к вам просьба. Возьмите кого-нибудь из собратьев-поэтов и приходите сегодня в «Золотую крону» к десяти: из Москвы приехал Никандров.
– Кто это?
– Ваш коллега – писатель. Он умница и прелестный парень. Я пригласил Юрла, он даст об этом информацию: пресс-конференция, которую ведут поэты, – сама по себе сенсационна.
Обернувшись к Сааксу, Воронцов снова потер пальцами холодные, гладко выбритые щеки и сказал:
– Ганс Густавович, а теперь просьба. Ссудите меня, пожалуйста, пятью тысячами марок.
– Не моку, друк мой. Никак не моку.
– Я всегда был аккуратен… Пять тысяч – всего пятнадцать долларов…
– Та, но в вашей аккуратности заинтересован только один человек – это вы. Иначе вам придется платить проценты. А в чем заинтересован я? Не обижайтесь, господин Форонцоф, но каждый человек должен иметь свою цель.
– Вы правы… Можно позвонить еще раз?
– Та, та, пожалуйста, я же отфетил фам.
Воронцов чуть прикрыл трубку рукой:
– Женя, это я. Приехал Никандров. Будет очень жестоко, если он в первый же день столкнется с… Ну, ты понимаешь. Возьми кого-нибудь из наших, и приходите к десяти в «Крону». Если сегодня Замятина, Холов и Глебов не заняты в кабаре – тащи их тоже. И подготовьте побольше вопросов о прошлом, о его роли в нашей культурной жизни и о связях с переводчиками в Европе. Ты понял меня?
Воронцов снова обернулся к Гансу Густавовичу и сказал:
– Я вам предлагаю обручальное кольцо. Вот оно. Как?
– Та, но уже фсе юфелиры закрыли торковлю.
– Что же я – медь на пальце ношу?
– Почему медь? Не медь. Я понимаю, что фы не будете носить медь на пальце. От меди на пальце остаются синие потеки и потом начинается рефматисм. Просто я не знаю цены на это кольцо, я не хочу быть нечестным.
– Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю – вы его продадите за двадцать тысяч.
– Ох, какой хитрый и умный, косподин Форонцоф, – посмеялся Саакс, доставая деньги, – и такой рискофанный. Разве можно оставлять в заклат любовь?
– А вот это уже не ваше дело.
– До сфиданья. И не сердитесь, я шучу. Кстати, к фам зфонила женщина, которая зфонит поздно фечером.
– Что она просила передать?
– Она просила сказать, что состояние фашего друга ухудшилось.
– Резко ухудшилось?
– Та, та, ферно, она сказала – «резко ухудшилось». Она просила фас зайти к нему секодня фечером.
– Мне придется еще раз позвонить, – сказал Воронцов и, не дожидаясь обстоятельно-медлительного разрешения Саакса, вызвал номер и по-немецки, чуть изменив голос, сказал: – Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи.
– Да, господин, я оставлю записку нашей гостье.
– Не надо. Вы передайте ей на словах.
– Хорошо, господин, я передам на словах.
– Прости, я задержался, – сказал Воронцов, поднявшись к себе, – почему ты не пил без меня, Леня?
– Один не могу.
– Значит, гарантирован от алкоголизма.
– Это верно.
– Тут вокруг тебя начался ажиотаж: пресса, поэты.
– Пронюхали? Откуда бы?
– Щелкоперы – труд у них такой, да и ты – не иголка в стоге сена. Голоден?
– Видимо – да, только я голода не ощущаю.
– Смена белья есть? Не вшив?
– Я прошел санпропускник, а смены белья нет. Куда-нибудь двинем?
– Сорочки посвежей нет? Галстуха?
– Ничего, из Москвы приехал – не из Вашингтона.
– Если бы ты приехал из Вашингтона – сошло бы, а поелику из Москвы прибыл – швейцар не пустит в кабак.
– Кого?
– Нас. Вернее, тебя, я при галстухе.
– То есть как это прогонит? Что он – член Совдепа?
– Совсем даже нет, – ответил Воронцов, доставая из чемодана, спрятанного под кроватью, туго накрахмаленную сорочку, – он очень Совдепы не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои парии и патриции, рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное, особое самоунижение. Он клиента ненавидит – тяжело ненавидит, а весь в улыбке, почтении, нежности, дозированном панибратстве. Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас – до переворота. А по счету платить им некому, так они жеребцам глаза… Штопором…
Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо.
– Здешняя индустрия лакейского унижения поразительна, – продолжал Воронцов. – Она предполагает восемь часов рабства и шестнадцать часов тайной, могущественной свободы. Лакеи скоро начнут создавать свои клубы – поверь. Ну, с богом. Давай на дорожку еще по одной… Галстух не в тон, но, прости, у меня только два.
– Неужели ты ничего не взял с собой из дома, Виктор?
– Бриллиантов взял тысяч на сто…
– Сильно пил?..
– Я, Леня, помогал. Сначала Антону Иванычу Деникину, потом поехал в Омск – адмиралу передал все… Помнишь корнета Ратомского? Умер с голода в Шанхае, а была вакансия – лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови: гонора в нем было преизбыточно… Я ведь, лакействуя, накопил в клубе денег на дорогу в Европу… Ваш сия, прашу…
– За тебя, Виктор, – поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. – За твое сердце и за мужество твое.
– Полно, Леня… Полно… Это все полезно – что было. За одного битого двух небитых дают.
Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки – поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров наконец спросил:
– Неужели никто из наших не мог тебе помочь?
Воронцов ничего не ответил, только усмехнулся.
– Дорогу, Леня, запоминай, – сказал он наконец, – тебе одному придется возвращаться, у меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь.
– Я помешаю тебе?
– Нет, я к себе никого не вожу…
– Совестишься конуры?
– Господи, что ты!.. Я не из купцов все-таки… Нет, тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди, – дома по-прежнему страшно? Как в восемнадцатом?
– По мне – стало еще хуже. Мужик доведен до полного измождения… Что им наша деревня… Ты им подай городской пролетариат… Вот они и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтоб заводы строить – по ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества…
«Ревель. Роману.
Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника, подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт.
Бокий».Расстановка сил
Глава эстонского государства Пятс быстро пошел навстречу Литвинову по толстому ковру, который скрадывал звук шагов.
Поначалу ковра не было, и идти навстречу послу приходилось через громадный зал, а паркет здесь был выложен какой-то особый, невозможно гулкий, и президент смущался того солдатского грохота, который шлепал гулким эхом по углам зала, хотя он старался мягко ступать на носки.
– Здравствуйте, господин президент…
– Здравствуйте, простите, что я задержал вас…
Пятс выждал паузу, думая, что Литвинов ответит нечто обязательное в таком случае, вроде «я понимаю вашу занятость», но посол ничего не ответил, пауза затягивалась, и президент, протянув левую руку, указал на два кресла возле камина:
– Прошу вас.
– Благодарю.
Литвинов набычил голову – она сейчас показалась президенту громадной, больше туловища посла, – чуть подался вперед и заговорил:
– Несмотря на наши неоднократные просьбы, полиция Эстонии не предприняла никаких шагов против тех бандитских групп, которые, базируясь в Ревеле, совершают нападения на города и населенные пункты, расположенные в РСФСР, и занимаются там грабежами, убийствами и насилиями.
– Пожалуйста, факты, господин посол. Бездоказательность в таком вопросе может быть трактована лишь как попытка вмешиваться в наши внутренние дела.
– Я думаю, если мы станем приводить факты, то картина получится обратная. Не мы вмешиваемся, а в наши внутренние дела вмешиваются: с территории Эстонии в Россию перебрасываются бандгруппы; здесь они находят покровительство.
– Я вынужден повторить: базой для обсуждения этого вопроса могут быть лишь строго документированные факты.
Литвинов достал из кармана пиджака несколько листочков бумаги. Он доставал их медленно, неуклюже, и делал он это продуманно и весело: президент никак не думал, что посол привезет официальный документ в кармане, а не в папке. Посол позволял себе шутить – иногда рискованно, но всегда точно и беспроигрышно.
Раньше – и в ссылке и в эмиграции – у Литвинова было отстраненное представление о дипломатии. Это представление невозможно изменить до тех пор, пока человек сам не станет дипломатом. Только тогда он поймет, что дипломатия есть одна из форм международной торговли, а та в свою очередь похожа на обычную торговлю, а в моменты наибольшей опасности для мира напоминает торговлю базарную, где побеждает самый спокойный, сильный и обязательно честный: плохим товаром морду извозят и опозорят надолго вперед – не поднимешься…
Литвинов многому научился у Чичерина, Красина и Воровского.
Манера этих людей была великолепна: чуть суховата, без всяких эмоций – карты на стол, дело есть дело, никакой суетливости и высокое чувство самоуважения: представлять следует не какую-нибудь державу, а первую в мире – социалистическую.
Литвинов как-то сказал замнаркома Карахану:
– Я убежден, что мы рано или поздно придем к решению важнейшей проблемы. Мы еще к ней не подошли, и как к ней подойти – вопрос вопросов, тут можно таких дров наломать, – я имею в виду проблему вытравления из сознания российской интеллигенции чувства собственной второсортности.
– То есть? – не понял Карахан. – Это отдает великодержавным шовинизмом.
– Отнюдь нет, – возразил Литвинов, – это если уж и отдает – то национальной гордостью великороссов. Я обожаю Байрона, но ведь Россия дала миру Пушкина! Мопассан? Великолепно, но у нас Чехов! Флобер, Золя, Диккенс? Верно, без них нет мира. А без Толстого, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Лермонтова? Верди?! А Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский? Как без них жить?
– Вы заметили, – усмехнулся Карахан, – наша революция пробудила и во мне, армянине, и в вас, иудее, высокое чувство социалистического великороссийского патриотизма?
– Заметил, – согласился Литвинов, – а потому во время переговоров ноги на стол, естественно, класть не следует, но надо всегда помнить, что мы живем под шатром великой российской культуры, мощнее которой, пожалуй, нет в мире… А то мы шведу какому-нибудь или голландцу ручку трясем и улыбку строим лишь потому, что он и у себя дома – иностранец.
…Достав из кармана листочки бумаги, Литвинов расправил их на коленях и начал неторопливо читать.
– «Пятого, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и двадцать третьего февраля 1921 года совершено двенадцать попыток нарушения госграницы, причем во время перестрелки, состоявшейся двадцать третьего февраля, ранено два советских пограничника и один эстонский. Во время перестрелки второго марта был убит русский белоофицер штабс-капитан Петр Васильевич фон Бромберг. При убитом была обнаружена крупная сумма денег и пачка поддельных советских документов. В Ревеле фон Бромберг проживал вместе с лидером белых монархистских бандгрупп графом Воронцовым. О том, где проживают и где встречаются представители эмигрантских бандгрупп, посольство РСФСР уведомило соответствующие органы Эстонии еще четырнадцатого февраля сего года…»
Литвинов продолжал читать свой документ, опровергнуть который не мог никто, а президент, слушая его, горестно и тяжело думал: «Наша вина заключается лишь в том, что мы – маленькая страна. Как же трагична роль малых стран в этом большом мире. Кого винить в том, что мы поселены богом на этой каменистой, прекрасной, неплодородной, но такой дорогой нам земле?»
Когда Литвинов закончил чтение документа, президент закурил и минуту сидел недвижно, смежив веки…
– Я дам указание разобраться во всем этом.
– Министр иностранных дел давал три указания, однако бандиты продолжают спокойно жить в Ревеле и встречаться, и мы знаем, где они встречаются и о чем они, встречаясь, говорят.
– Мы живем по своим законам, господин посол. Полиции нужны неопровержимые улики… Иначе мы не сможем предпринять против агрессивной части русской эмиграции те шаги, которые вы подразумеваете…
– Правительство уполномочило меня довести до вашего сведения, что оно не намерено более терпеть подобного рода вылазки, проводимые с территории государства, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения.
– Но вы, надеюсь, понимаете те трудности, которые стоят перед нами? Вы, лично вы, живущий здесь…
– Я не научился отделять мое мнение от мнения моего правительства, господин президент.
– Что же нам – ЧК вводить, чтобы изолировать русскую эмиграцию?!
– Я не уполномочен давать вам советы. Это можно расценить как вмешательство в ваши внутренние дела. Но я хотел бы, чтобы те уважаемые господа, которым вы поручите это дело, с должным вниманием отнеслись к тому, что правительство РСФСР не намерено далее терпеть подобного рода акты со стороны русских бандгрупп при попустительстве эстонских властей…
– Я понимаю эти ваши слова…
– Это не мои слова, господин президент, – жестко поправил его Литвинов.
– Ваше правительство угрожает нам интервенцией?
– Мы никому не угрожаем. Убивают наших пограничников, попирают наши границы, в местной прессе подвергают беспрецедентным нападкам мою страну и ее лидеров – конец всякому терпению чреват действием!
– Но я же не могу издать приказ об аресте всех этих русских, господин посол! Войдите в мое положение! Меня не поймет мой народ!
– А мое правительство не поймет мой народ, если и дальше будут продолжаться подобные эксцессы на границе.
– Я не могу не отметить, господин посол, что ваша позиция неразумно жестока.
– Вы говорите о жестокости моего правительства? Того, которое дало вам свободу и независимость? Того, которое выступило против колониализма царя? Того, которое гарантирует вам свободу и безопасность от немецкого вторжения? Свободой, которая не завоевана, но получена из других рук, надо уметь уважительно и целенаправленно пользоваться, господин президент.