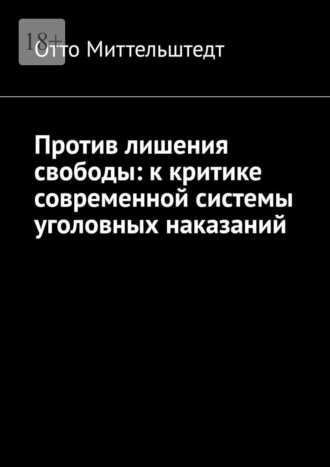
Полная версия
Против лишения свободы: к критике современной системы уголовных наказаний
Таким образом, в этом вводном рассуждении можно еще раз повторить тезис о том, что как на низких, так и на высокоразвитых ступенях цивилизации проходили века и тысячелетия без необходимости в тех средствах наказания, которые мы привыкли относить к категории «лишение свободы». Конечно, везде, где обитал человек, были и подземелья, загоны или клетки, которые можно назвать тюрьмами, и во все времена люди знали, как лишить равных себе не только свободы, но и жизни. С начала всей юридической истории врагов страны, народа, общего мира схватывали и заключали в тюрьму, как только их задерживали, будь то для того, чтобы предать их смерти, рабству или изгнанию, будь то для того, чтобы дать им погибнуть в тюрьме, будь то для того, чтобы время от времени возвращать их на свободу с выкупом или без него. Однако как формы борьбы и орудия войны темницы всегда занимали свое место и выполняли свои задачи, ничем не отличаясь от защиты и оружия, цепей и уз, а также всех прочих средств физического насилия. В мои намерения не входит замалчивать или отрицать столь очевидные факты. Но – и только это я имею в виду – Восток, античный мир, Средневековье и современность вплоть до середины прошлого века знали в качестве объекта наказания не естественную свободу, а исключительно жизнь, тело и имущество, Родину и общину, то есть всегда физическую сущность человека с непосредственно осязаемыми и разрушаемыми чувственными дополнениями. Странная, однако, идея рассматривать человеческую свободу, это воплощение пустых абстракций, как существо из плоти и крови, как позитивную сущность, принадлежащую самостоятельной личности, обращаться с ней как с делимым имуществом, устанавливать твердо градуированные, относительно эквивалентные правовые отношения между различными временными мерами несвободы вообще и различными юридически сформулированными категориями преступлений в частности – на этой идее покоится все уголовное право современности – эта идея, которая на первый взгляд так же непостижима для рассудка, как и для живого осуществления, принадлежит исключительно нашему веку.
Поэтому мне кажется, что стоит немного подробнее рассмотреть, как такая идея зародилась в общественном сознании, как она обрела плоть, и как постепенно стала доминировать в юридической жизни. Не обременяя эти мимолетные страницы слишком тяжелым историко-правовым материалом, я кратко напомню те исторические факты, которые имеют непосредственное отношение к предмету моего исследования. Каковы были правовые средства наказания в Германии сто лет назад, до того как в уголовном праве наступила эпоха правильного судебного законодательства Фридриха-Вильгельма II и Франца-Иосифа, эпоха, основанная на разуме, гуманности и государственном подходе?3 Уголовно-процессуальный кодекс императора Карла V все еще составлял тогда основу уголовной юриспруденции. Поверх нее лежал беспорядочный подлесок дико разросшейся практики немецких судов. «Каролина»4, однако, не знает вовсе наказания в виде лишения свободы на определенный срок; она знает только смертельные и калечащие наказания в жестоком изобретательном разнообразии5. И даже практика, боровшаяся против кровавой суровости этой судебной системы, выступала скорее против самых жестоких форм смертной казни, против увечий и бессмысленных пыток осужденных, за исключение из уголовного права многочисленных преступлений, достойных смерти – ереси, колдовства, чародейства и т. д., чем за то, чтобы перенести власть наказания с плоти человека на совершенно бесплотную свободу, и сделать ее своим исключительным объектом.
Даже позднейшие тенденции княжеского милосердия, выступавшие против слишком частых казней, предпочитали одновременно возвращать жизнь и свободу помилованному преступнику; превращение смертной казни в пожизненное заключение как вид юридической практики относится лишь к последующему периоду, когда приговоры к лишению свободы нашли свое юридическое признание в уголовном законодательстве немецких государств. И это отнюдь не было, как мы, современные люди, склонны считать сейчас, просто большей грубостью, черствостью, жестокостью старых времен, когда придерживались мнения, что смерть – единственное адекватное наказание за каждый проступок, выходящий за рамки гражданской и полицейской несправедливости6. Конечно, XVIII век в его первой половине был еще бесконечно далек от господствующей сегодня оценки жизни как высшего человеческого блага, которая коренится в патологически перевозбужденной чувственности, атрофии воли и отсутствии веры, и ее утрата еще не ощущалась с судорожной тревогой, словно надвигался слом всего мирового порядка. Земное существование по-прежнему воспринималось спокойно, как дар Божий, данный человеку для испытания и проверки и могущий быть утраченным в любой момент из-за греха или проступка. Поэтому ни в коем случае нельзя было причинять преступнику зло таким лишением жизни, которое не было бы основано на естественном ходе человеческих дел, которое не укладывалось бы в рамки юридически и нравственно допустимых средств наказания, не менее чем телесные наказания или штрафы, которое не должно было бы рано или поздно постигнуть преступника согласно божественному устройству мира даже без вмешательства земной карательной власти. Но помимо этого, еще одно основополагающее духовное направление сыграло значительную роль в предотвращении сползания уголовного закона к наказаниям в виде лишения свободы.
Карательное правосудие в рамках религиозно-философских идей того времени было настолько полностью пропитано незыблемой тогда верой в то, что оно является образом сверхъестественной, трансцендентной силы наказания, независимо от того, представлялась ли эта сила в виде Иеговы в иудаизме, Создателя и Хранителя мира в христианстве, или в виде пантеистического провидения, что мысль об ассоциировании временной цели с наказанием даже не могла возникнуть. Не существовало ни противопоставления абсолютной и относительной теорий наказания, ни теорий о природе наказания. В своей трансцендентной высоте идея и смысл наказания настолько превосходили все умствования и толкования человеческого ума, все благочестивые попытки земных созданий навязать ему тонко понятную цель, что могли быть осмыслены только в абсолютной форме. И этой абсолютности отвечала только смертная казнь, но никак не лишение свободы. Сомнения в ее оправданности как таковой было для того времени столь же совершенно вне привычного дискурса, как и вопросы о необходимости последнего суда, о том, почему Бог хочет отделить благочестивых по правую руку от нечестивых по левую, или почему предполагается внутренняя взаимосвязь между добродетелью и ее наградой, между пороком и его наказанием. Справедливость была самоцелью, наказание было наказанием, не больше и не меньше, как можно было попасть в ловушку беспокойства о том, почему и зачем? Все эти взгляды должны были измениться, прежде чем была подготовлена почва для вынесения приговоров, связанных с лишением свободы. Культ человеческой личности должен был занять место старых культов религиозного поклонения Богу. Там, где еще минуту назад царила неограниченная власть государства и церкви, должен был властно утвердиться суверенитет личности и ее неотъемлемых прав.
Человеческое существо, всегда и везде – его красота, благородство, прекрасная свобода, блаженство, новая вера должны были вращаться исключительно вокруг этого великого идола эпохи гуманизма, просвещения и революции – вот тогда и пришел конец абсолютизму земной карательной власти. С этого момента право человека на жизнь стало выше всех суждений Бога и человека. Все, что стало историческим, все, что было традиционным и существовало в виде мнений и институтов, было отдано в горнило критики: уголовное право, которое было более глубоко переплетено с верованиями, обычаями и самыми оригинальными чувствами прошлых поколений, чем другие части общественной жизни, должно было принять ту же участь. Естественно-правовой рационализм и философия с жадностью бросились в анализ наказания и карательной власти, началось господство теорий уголовного права, и после того, как в кругах мыслителей достаточно опостылели абсолютные и относительные, разумные и неразумные теоремы о наказании, законодательство принялось за работу по выработке наказания в соответствии со своими целями. Наступило время, когда определять политику страны стали прежде всего государственные интересы. Идея о неограниченном призвании государственной власти способствовать благосостоянию страны превентивным путем и по-отечески воспитывать подданных была особенно сильна в германской монархии. Забота государственной полиции о благосостоянии и благополучии подданных, о правовой безопасности и общественном порядке не знала границ. Поэтому, когда Прусское земское уложение7 переняло наследие Каролины в обобщающей кодификации немецкого уголовного права и в духе гуманности, свойственной эпохе Просвещения и законодательно реорганизовало систему наказаний, была подготовлена почва для введения различных градаций наказаний в виде лишения свободы, частично вместо смертной казни, которая была отвергнута как несправедливая и жестокая, а частично наряду с ней.
Соображения полицейской целесообразности, особенно в широкой области преступлений против собственности, вели в том же направлении. Идея градации тюремного заключения по срокам требовала логической завершенности системы – преступления, недостойные смертной казни должны были наказываться различными по тяжести наказаниями. Для выметания с улиц бродяг, нищих и тому подобных субъектов, нетерпимых для полицейским способом управляемого общества, существовали работные дома, пенитенциарии, прядильни – учреждения полуадминистративного, полупенитенциарного характера. Кроме того, военное ведомство издавна имело свои гауптвахты и арестантские дома, свои крепости и казематы для содержания военнопленных и военных преступников. Опираясь на эти материальные основы, Прусское земское уложение довольно произвольно определило для значительного количество преступлений очень примерные срока заключения в крепостях, в обычных и каторжных тюрьмах, иных пенитенциарных учреждениях. Но всего нескольких лет хватило тогдашним пруссакам, чтобы понять, что они слишком глубоко увязли в опасной арифметике тюремных наказаний. Указ от 26 февраля 1799 года помог свернуть со скользкой дорожки. Заключение в тюрьму8 на неопределенный срок до возможного помилования или в исправительное учреждение9 до доказанного исправления должно было помочь в тех многочисленных случаях, когда тюремное заключение на определенный срок казалось бесполезным. Тогда же вновь вернулись к плетям и порке, позорному столбу и клеймению, к ужесточению тюремного заключения путем добавления особых лишений, чтобы справиться с растущим числом уличных грабителей, взломщиков и воров-рецидивистов, чтобы общее чувство справедливости острее осознало, что тюремное заключение должно означать нечто иное, чем простое отрицание свободы, что оно сохраняет значительное позитивное содержание суровых наказаний, лишений и боли.
И именно этому твердому, осязаемому содержанию лишения свободы как телесного наказания немецкое уголовное право вплоть до середины XIX века неоднократно придавало решающее значение. Уголовные суды не были озабочены ни типологией, ни сроками наказаний. Ни законодателей, ни судей не интересовало, как выглядят заключенные и тюрьмы внутри. Они утешались тем, что голод, побои и тяжелый принудительный труд, вероятно, делали свое дело, и что среди людей, какими бы бедными, жалкими и заброшенными они ни были, не найдется ни одного, кто не пытался бы избежать жутких тюремных стен с ужасом в уме и стыдом в совести. То, что тюремное заключение может быть когда-либо полностью лишено своего устрашающего характера, все еще оставалось за пределами рационального мышления. Примерно в середине этого беспокойного XIX века новые идеи о природе наказаний в виде лишения свободы ворвались в немецкое правовое сознание сразу с двух сторон. С одной стороны, на нас обрушилась всеобъемлющая реформа всего уголовного законодательства франко-рейнского происхождения. Вместе с принципами гласности и устности уголовного процесса, с судами присяжных и их искусственными полномочиями мы получили в качестве естественного субстрата гладкие формулы французского кодекса, категорическое трехчленное деление преступлений на тяжкие преступления (crimes), менее тяжкие преступления (delites) и проступки (contravention)10 и вытекающее отсюда трехчленное деление наказаний, подразделяющихся на заключение в тюрьму, заключение в исправительный дом, арест11 – огромную арифметику конгруэнтных уголовных понятий и штрафных цифр, которая восхищала расчетливый ум. В бесконечной суматохе различий по видам и размерам быстро терялось осознание человеческого, нравственно разумного содержания наказаний. В юриспруденции, как и в народном праве, человек находил полное удовлетворение в том, чтобы вложить весь смысл наказания в его тонко взвешенную меру и в его юридическое название.
Разве можно было сомневаться в том, что столь грандиозное усилие, состоящее из точных определений и пропорций, не может остаться без значения и полезного эффекта для реального мира? С другой стороны, в условиях все возрастающего внешнего привыкания чувств к публичным исполнениям кровавых смертных и телесных наказаний, невидимое, тайное, безмолвное исполнению тюремных приговоров должно было оказать сильное влияние на все духовные, нравственные, бытовые взгляды на наказание. Теории уголовного права, которые всегда были тихой усладой философски спекулирующих государственных деятелей и юристов, в эпоху расцвета немецкой философии стали неактуальными: каждый мог вкладывать в понятие наказания то, что соответствовало его собственному настроению. А так как настроение наших современников все больше и больше отдавалось исключительно той современной человечности, укорененной больше в нежности кожи и нервов, чем в душе, которая должна была заменить религию и веру, весь философский и весь нравственный идеализм, то не могло не случиться, что и наказание попытались включить в атмосферную картину прекрасного и доброго, мирного и братского человечества, энергично стремящегося к целям земного блаженства, земного всемогущества и всезнания. Этому мощному потоку современного мировоззрения прекрасно подошло новое филантропическое учение, которое в то время проникло к нам из Северной Америки и Англии, возвещая грядущее исцеление. И это был второй импульс, который я описал выше как катастрофический для немецкого уголовного права. Как известно, одной из наиболее ярких черт англосаксонской расы является высокоразвитый общественный дух, а в его рамках – энергичное стремление к индивидуальному участию во всевозможных благотворительных организациях, фондах и институтах ради общего блага.
То же неустанное улучшающее и организующее творческое стремление, которое заставляет британца и янки оборудовать свой дом со всем мыслимым, полезным и уютным комфортом, независимо от того, живет он в нем немного или не живет вовсе, побуждает его также и к неустанной реформирующей деятельности по созданию, развитию и совершенствованию общественных институтов, направленных на общее благо. При этом его ум больше сосредоточен на внешнем порядке и целесообразности в контексте целого, чем на внутренней сути дела. Дух пуритан и квакеров всегда оставался сильным в этой расе. И если немец с его манерой смотреть вглубь вещей слишком часто производит впечатление бездуховного, самодовольного, лицемерного ханжества и педантизма, ограниченного обманчивыми формами, то он должен со стыдом признать, что в практической организации общественной и частной жизни он сильно отстает от лучших зарубежных образцов. Там, по другую сторону океана, в штате Уильяма Пенна, на девственной земле, где молодое поколение, не затронутое историей и бесполезной памятью, строило новое государство, идея использования тюремного заключения как упражнения в покаянии в целях религиозного возрождения впервые обрела благодатную почву в конце XVIII века. Бежавший от мира дух христианства, который столько веков господствовал в католическом мире в отшельнических пустынях и в кельях монастырей, соединился здесь в любопытнейшем союзе с миссионерским рвением квакеров. Абсолютная изоляция от внешнего мира непреодолимыми стенами, уединение в неприступной тишине тюремной камеры, молитва и умерщвление плоти, и результат этого для Внутреннего человека – интроспекция, раскаяние и сожаление должны были стать мощными моральными рычагами, посредством которых нарушителя божественных и человеческих законов как раскаявшегося грешника можно было бы привести обратно в сообщество благочестивых и праведных.
Как могла подобная мысль, однажды высказанная и однажды осуществленная на практике, среди столь предприимчивого народа, в такой стране, столь восприимчивой ко всяким экспериментам, как США, не найти в скором времени широкого применения государственным или частным средствам! Сколько разрозненных стремлений нашли благодаря ей желанное удовлетворение! Рвение сект получить терпеливый человеческий материал для прозелитов, стремление филантропов к улучшению, страсть архитекторов попробовать свои силы в архитектурных проблемах внешнего величия и внутреннего разнообразия, радость методичного порядка, разделения, чистоты, дисциплины, пленительная видимость практичности, безопасности и общественной пользы – все это видело приближение новой «системы» к совершенству. После скромного начала, положенного в Филадельфии еще в 1791 году, в третьем десятилетии этого века на пенсильванской земле выросли два знаменитых пенитенциарных учреждения – Черри-Хилл и Питтсбург, которые вскоре были с благоговейным изумлением встречены цивилизованным человечеством как идеалы гуманного уголовного правосудия. После Июльской революции12 условия для подражания этой системе были найдены и в старом свете – в возрожденной Франции, возрожденной Бельгии и реформаторски настроенной Англии. Необходимо было создать некую замену французским баньо13, Бельгия имела амбиции и возможность устроить все в самом современном духе либерального гуманизма, а Англия была также взволнована необходимостью придумать средство от растущего возмущения своих австралийских колоний против депортации, да и общественная совесть ее была удручена памятным описанием Говардом английского «State of prison»14.
Число апостолов тюремной реформы заметно выросло во всех странах. Если американский методизм и утилитаризм уже внесли свою лепту в то, чтобы ломать голову над «системой», проявлять игривую изобретательность, вскоре доведя изоляцию до абсурда, а молчание до идиотического оцепенения, то путаница должна была значительно возрасти, когда ученики Бентама, французские гуманисты и немецкие теоретики продолжили размышлять над секретами пенсильванской тюремной мудрости. Все сходились во мнении, что главное – это исправление и обращение людей: как же такая высокая цель могла не вызвать аплодисментов всех филантропов! Безошибочное средство было найдено, оставалось только правильно его применить. Как только у человека появилась «образцовая тюрьма», чудеса, которые она должна была творить среди несчастных и изгоев мира, не могли не воплотиться в жизнь. Пентонвиль под Лондоном стал лидером (1842), за ним последовали Антверпен, Левен и Амстердам, а в 1848 году Германия окончательно обогатилась первыми откровениями новейшей тюремной науки в Моабите и Брухзале. Поскольку люди всегда получают удовольствие от своей работы, особенно если эта работа осмысленна, артистична и трудоемка, было бы странно, если бы учреждения нового образца до поры до времени не оправдывали всех возлагавшихся на них надежд. Погрузившись в идею лишения свободы, ни один здравомыслящий человек не мог усомниться в многочисленных внешних преимуществах камерных тюрем и одиночного заключения перед тюрьмами с общим содержанием. Последние уже давно, под совокупным влиянием огромного роста социальной преступности в распадающемся обществе и усиливающейся тенденции судов назначать более длительные сроки заключения, постепенно превратились в нашем веке в такие злокачественные рассадники преступного менталитета, в такие язвенные логова накопленных физических и моральных экскрементов, что вид их мог внушать только ужас.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
По всей видимости, речь тут идет об одном из этапов противостояния грюндерского и юнкерского течения в политической жизни Германии того времени.
2
Это цитата из «Фауста». Доктор Фауст соглашается с абитуриентом, отказывающимся избрать для себя юридический факультет: Ich kann es euch so sehr nicht übel nehmen, Ich weiß wie es um diese Lehre steht. Es erben sich Gesetz’ und Rechte Wie eine ew’ge Krankheit fort, Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage; Weh dir, daß du ein Enkel bist! Vom Rechte, das mit uns geboren ist, Von dem ist leider! nie die Frage. В переводе Пастернака: Вот поприще всех бесполезней. Тут крючкотворам лишь лафа. Седого кодекса графа, Как груз наследственной болезни. Иной закон из рода в род От деда переходит к внуку. Он благом был, но в свой черед Стал из благодеянья мукой. Вся суть в естественных правах. А их и втаптывают в прах.
3
Здесь я не вполне уверен в своем переводе. В оригинале: Welches waren vor hundert Jahren die gesetzlichen Strafmittel in Deutschland, bevor die Fridericianische und Josephinische Epoche fürstlicher Legislation mit ihren auf Vernunft, Humanität, Staatsraison im großen Styl gegründeten Tendenzen sich des Strafrechts bemächtigten?
4
Каролина – (лат. Constitutio Criminalis Carolina, сокращённо C.C.C., немецкое название – Peinliche Gerichtsordnung Karls V, сокращённо P.G.O.) – принятое в 1532 году и опубликованное в 1533 году уголовно-судебное уложение «Священной Римской империи германской нации». Получила свое название в честь императора Карла V.
5
Статья 157 Каролины, однако, гласит следующее: «Если кто-либо впервые совершил кражу стоимостью менее пяти гульденов, и при том вор не был окликнут, замечен или застигнут до того, как он достиг своего убежища, а также если он не совершал взлома и не влезал (в помещение), а украденное стоит не более пяти гульденов, то эта кража тайная и самая легкая. Если подобная кража будет затем раскрыта, и вор будет захвачен с украденным, или без такового, то судья должен приговорить его, если вор имеет средства, уплатить потерпевшему двойную стоимость покражи. Если же вор не в состоянии уплатить подобный денежный штраф, он должен быть наказан заключением в тюрьму на некоторый срок. И если вор не имеет или не может достать ничего большего, то он должен по крайней мере возвратить украденное потерпевшему, или же оплатить или возместить его стоимость, а потерпевший должен возместить властям денежную пеню из этого простого возмещения украденного, но не свыше его стоимости. При выпуске (из тюрьмы) вор должен оплатить стоимость своего кормления в тюрьме и заплатить тюремщикам за их труды и усердие (если ему есть из чего) или дать о том обычное поручительство; сверх того он должен дать наилучшим образом вечную клятву в том, что он будет соблюдать общий мир». Впрочем, это выглядит скорее как обеспечительная мера для выплаты возмещения, чем лишение свободы как наказание.
6
То есть гражданского деликта и административного правонарушения.
7
Прусское земское уложение, иначе Всеобщее земское право для прусских государств, на немецком Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, было введено в действие в 1794 году. Было разработано во второй половине 18 века по поручению Фридриха Вильгельма Второго. Разработкой уголовной его части занимался Эрнст Фердинанд Кляйн.
8
Zuchthaus
9
Besserungsanstalt
10
Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen
11
Zuchthaus, Gefängniß, Haft
12
По всей видимости, имеется в виду Французская революция 1830 года.
13
Французская каторжная тюрьма.
14
Jonh Howard, The State of the Prisons, 1777



