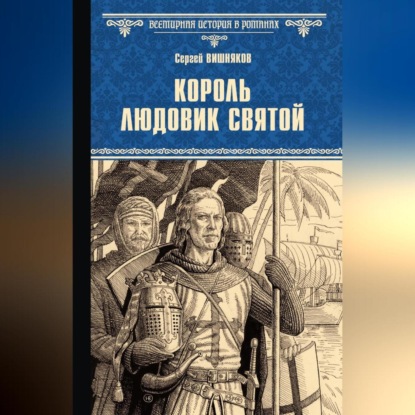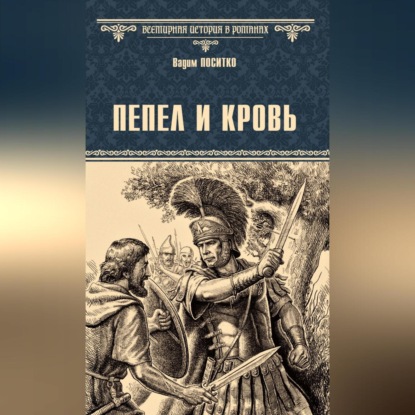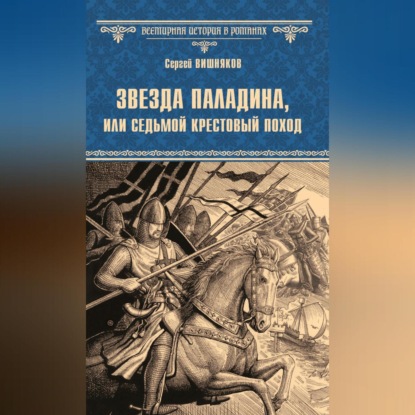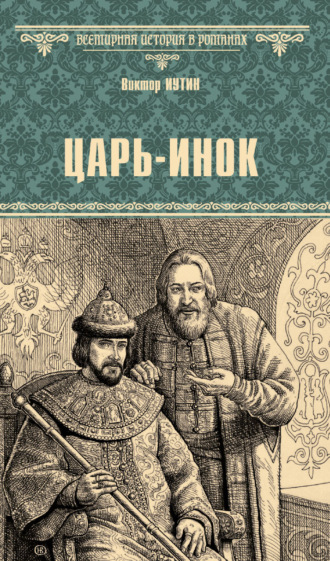
Полная версия
Царь-инок
У подножия царского места вновь остановились, и Феодор покорно дал боярам стянуть с себя просторную, небесного цвета, рубаху, в кою его облачили при выходе из дворца, и вот он уже ощущает тяжесть золотого государева наряда, такую, что подгибаются ноги, но его берут под руки Борис Годунов и Иван Мстиславский и ведут по ступеням к трону. Появляется митрополит Дионисий, необычайно величественный сейчас, осеняет его крестом. Хор замолкает, и в воцарившейся тишине, обернувшись к безликой толпе вельмож, Феодор произносит то, что должен произнести, стараясь придать голосу твердости:
– Отец наш, оставив земное царство, меня при себе еще и после себя благословил великим княжеством Владимирским и Московским и в духовной своей велел мне помазаться и венчаться, и именоваться в титуле царем – по древнему нашему чину.
– Господи, услышь молитву и веди от святого жилища Твоего благоверного раба Своего, царя и великого князя Феодора! – вторит ему Дионисий, и на шею Феодору ложится Животворящий крест, на плечи – бармы. Опустив голову, он отдаленно слушает наставления митрополита, покорно ждет того последнего и важного мгновения, которое должно завершить все это неприятное для него действо. И вот он ощущает прикосновение ко лбу и вискам соболиного меха, чувствует тяжесть главного венца – шапки Мономаха. Тяжесть власти…
И вновь грянул хор, и вновь ему кланяются в пояс, и вновь он выходит, осыпаемый золотыми монетами, из Успенского собора, слыша рев толпы и грохот пушек, и вновь, как и утром, он стоит у гробов отца и старшего брата в Архангельском соборе, но уже в венце и государевом наряде. И глядя на плиту, под которой покоится отец, Феодор, склонившись, вопрошает тихо:
– Почто, отче, обрек ты меня сим тяжким бременем? Не готов я был, не должен… Ты не хотел… и я не хочу…
* * *Одним из первых самостоятельных решений государя Феодора Иоанновича было возрождение Зачатьевского монастыря в Москве. Основанный в XIV веке и уничтоженный пожаром 1547 года, он долгое время оставался скорее монашеской общиной, пока царь Феодор не выделил деньги из собственной казны для строительства нового собора монастыря, а это значило, что обитель получила возможность возродиться вновь. Покровительство государя монастырю, названному в честь Зачатия святой Анны, было не случайным – за десять лет брака Феодора и Ирины Господь так и не даровал им дитя. И потому на освящение обители митрополитом Дионисием они пришли оба, в сопровождении некоторых бояр и придворных.
Был здесь и Иван Петрович Шуйский, великий боярин и воевода, прославленный спаситель Пскова от польских войск, а ныне один из соправителей государя. Будучи псковским наместником, он далеко не сразу сумел прибыть в Москву и потому не застал смерти и похорон Иоанна, осады Кремля горожанами, выдворения Вельского.
И хоть родичи его получили в кормление новые города (Иван Петрович – Псков и Кинешму, а Василий Скопин-Шуйский – Каргополь, представители еще одной ветви Шуйских, братья Василий, Андрей и Дмитрий Ивановичи, удостоились получения обширных земель казненного в опричные годы родича, князя Горбатого-Шуйского) и сам он по роду своему был вторым в Боярской думе после князя Мстиславского, однако честь его была уязвлена тем, что власть захватили Захарьины и Годуновы. Ежели ещё с фигурой Никиты Романовича, коего князь сам безмерно уважал, он мог мириться, но с Годуновыми, коих при дворе тьма, целое засилье, – нет! Даже сейчас подле царя и Ирины (упорно не мог Иван Петрович заставить называть ее царицей!) родичей Бориса стояла целая толпа. Так же, как и в день венчания на царство Феодора, их было столько, что всех удостоили правом держать на руках государевы реликвии, в то время как из Шуйских лишь один, князь Василий Скопин-Шуйский, держал скипетр. Подачка, ничто иное, словно брошенная собаке кость! Ну нет, такого Иван Петрович простить не мог. Он стоял, опираясь на резной посох из рыбьего зуба, высокий, осанистый, дородный, весь в парче и бархате, в сапогах из цветной кожи – само олицетворение великой власти. Он был еще не стар, однако немного сдал в последние годы. Так на него повлияла смерть любимой супруги, что так и не смогла родить ему наследников.
Отчего-то нравился ему митрополит Дионисий, тоже еще далеко не старый муж, сановитый, величавый, знающий себе цену. Видимо, разглядел в нем князь родственную душу, уважал его за твердость духа, за начитанность и острый, великий ум, и уже сумел расположить его к себе дорогими подарками, до коих владыка был охоч. И теперь, когда служба была окончена и Дионисий благословил царскую семью, Иван Петрович двинулся с места, направляясь к митрополиту. Владыка благословил его, и они вместе, подле друг друга, пошли к ждущим их возкам – впереди был торжественный обед у государя. Князь любезно пригласил владыку в свой богатый возок, обитый изнутри бархатом и где подготовлено для путников было столь необходимое в жаркий летний день холодное питье.
Тронулись. Дионисий с наслаждением испил воды с малиной, утер бороду, поблагодарил князя. Шуйский с улыбкой кивал, говорил, что рад услужить владыке.
– Государь не теряет надежды завести наследника, раз решил возродить сию обитель, – сказал он вдруг, наливая Дионисию из серебряного жбана еще воды с ягодами. – Однако чудес не бывает.
– Это смотря во что верить, – отвечал Дионисий, внимательно глядя на собеседника.
– А во что веришь ты, владыка?
Дионисий нахмурился, не зная, что ответить.
– Чего бы ты хотел? Самое главное желание, – пояснил Иван Петрович.
– Может, и рано о том говорить, но мечтаю я, дабы здесь, на Москве, появился патриарший престол, – сказал Дионисий твердо и уставился в окно.
– Продолжай, отче. – Князь испытующе глядел на Дионисия, и тот, погодя, начал говорить:
– Нет более такого влияния у церкви нашей, как было ранее, и покойный государь сам виновен в том, жил в блуде с последней женой и зачал с ней сына! Глядя на государя, и весь народ наш живет в упадке. И надобно возрождать церковь. У нас новый государь, коего с Божьей помощью венчали на царство. Может, ныне будет лучше… Однако молитвы государя не помогут. И посему говорю – необходимо учредить патриаршество! Разве мы не достойны? Все остальные православные патриаршие столы находятся под влиянием мусульман, они лишены свободы, лишены своего слова, лишены могущества и силы! Ответь, князь, разве не достойна Москва стать главным оплотом веры православной?
Шуйский видел, как горели глаза митрополита, жившего этими мыслями, видимо, давно, и произнес:
– Твои слова верны, отче, и посему готов оказать тебе любую в том поддержку. И бояре поддержат, ежели нужно! Сподобим! И серебро грекам найдем, дабы умаслить. Но… можно ли мыслить о том, пока у власти Годуновы и Захарьины?
– Никита Романович, молвят, нездоров, – произнес Дионисий, – а Борис и Дмитрий Годуновы уж очень крепко на ногах стоят.
– Без Никиты Романовича не выдюжат! – заверил Иван Петрович. – И здесь одно поможет… Помнишь, владыка, судьбу двух жен царевича Ивана покойного? Государь Иоанн Васильевич за бесплодие их всех в монастырь упек. Отчего ж и Ирину не возможем?
– Далеко мыслишь, князь, – молвил Дионисий, – чай, Никита Романович еще жив. И царица может понести в любой миг…
– Это одному Богу известно, что и как будет. Мы умеем ждать. Ты будь с нами, владыка!
Дионисию и самому не нравились Годуновы, и занять сторону знати, кою представлял сейчас пред ним Иван Петрович Шуйский, было выгоднее всего, и князь довершил свой призыв обещанием Дионисию, от коего у него все затрепетало внутри:
– Отберем у них все, женим государя вновь, а там и патриарший престол тебе добудем! Чай, люди мы не бедные, серебра хватит, как мыслишь?
И подмигнул заговорщически, улыбаясь. Дионисий кивнул, глядя ему в глаза. Оба поняли тогда, что объединяет их меж собой – неистовая жажда власти. А значит, надобно быть заодно.
3 глава
Более всего боярин Никита Романович Захарьин боялся не успеть завершить то, что начал. Казалось бы, минуло совсем немного времени, как он сумел сосредоточить всю власть в своих руках, так начало подводить здоровье. Бывало, слабость и головокружение такие нахлынут, что на ногах стоять невмоготу, не то что заниматься державными делами. А бывало, и сердце нехорошо зайдет в груди, что от боли темнеет в глазах. И хорошо было бы хоть немного отдохнуть, восстановить здоровье, подорванное невиданным напряжением, кое Никита Романович пережил, защищая свое право на власть. Но некогда! Каждый день приказы, собрания думы, поездки, приемы.
И сделано было немало.
Первым делом, помазав на царство племянника, Никита Романович выдворил английского посла Боуса (угодил, наконец, дьяку Щелкалову, с ним нельзя враждовать, он нужен). Посол прибыл к царю Иоанну Васильевичу еще в минувшем году и требовал небывалых привилегий для английских купцов, и покойный Иоанн, ослепленный жаждой мести за проигранную войну, казалось, был готов ради военного союза с Англией на все, даже нанести небывалый ущерб русской торговле. Но, благо, не успел. И наглеца Боуса еще в день смерти государя посадили под замок. Благоволящий иностранцам Борис Годунов всячески пытался облегчить его участь, и Никита Романович однажды жестко его за это отчитал, сказав, что ныне этого делать не следует, что это внесет распри в думу, что Боус настроил против себя слишком многих бояр. Борис во всем слушался Никиту Романовича, перечить не стал и сейчас.
Наконец, едва прошло венчание на царство, Боус был вызволен из заточения, представлен новому государю (Феодор тогда не понимал, почему несчастного иностранца так мучали, Никите Романовичу еще долго потом пришлось объяснять племяннику, что к чему), после чего ему выдали подарки, грамоты с подтверждением прежних прав английских купцов на Русской земле и с тем отправили в Архангельск, где его ждал корабль. Обиженный и оскорбленный посол оставил все дары в России, вернулся в Англию и рассказал королеве о своих лишениях, многое приукрасив, однако, самое главное, он доложил, что после смерти Иоанна в России царит безвластие, на троне слабый царь, всем правят бояре (об этом тоже вскоре узнают при московском дворе). И во время этого «безвластия» руками Никиты Романовича и остальных бояр, что все же пока были едины в своих решениях, повторимся, содеяно было очень много.
Доставшаяся в наследство от Иоанна Черемисская война заставила думу пойти на решительные шаги по окончательному замирению Приволжья. И единственной возможностью закрепиться там и представлять грозную силу – строительство новых крепостей. На это бояре средств не жалели, со всех концов страны собирали и снабжали мастеров, отправляли стрельцов и служилых дворян к ним с помощью. Так, благодаря топору и великому труду русского мужика в безлюдной степи выросла целая степь острогов, будущих городов – Цивильск, Яранск, Малмыж, Уржум, Санчурск, на марийских землях появились Козьмодемьянск и Царево-Кокшайск[2]. Такая линия обороны показала тщетность борьбы черемисов за независимость. Уже в следующем году восставшие направят в Москву послов и поклянутся в вечной верности государю Феодору Иоанновичу…
Кроме того, держава пыталась закрепиться и на севере – правительство хотело защитить северные границы и ценные торговые пути в случае новой войны со шведами, и в том же году отправлены мастера на укрепление стен Соловецкого монастыря, а также строительство нового острога и пристани на Белом море. Так был основан будущий Архангельск, уже через несколько лет ставший центром внешней торговли и несметно обогативший казну…
А сколько всего еще обсуждалось, сколько предстояло содеять! На помощь казакам Ермака в Сибирь послан стрелецкий отряд под командованием князя Болховского с наказом привезти пленного царевича Маметкула и выплатить казакам и атаманам щедрое жалованье. Одновременно купцам Строгановым была направлена грамота в Сольвычегодск, дабы они дали Болховскому еще людей, снабдили лодками и всевозможными припасами. Стоит там только закрепиться, поставить острог, и тогда в Сибири родятся новые и новые города, и двинется Россия на восток, к новым землям, к несметным богатствам, что помогут возродиться стране и приумножить свои силы… Никита Романович грезил этим, восхищался полководческим талантом и удалью атамана Ермака…
Однако дума не была едина, и первые распри начались едва ли не сразу после венчания на царство Феодора – потомственный казначей Петр Головин затеял тяжбу с Борисом, когда тот ввел в думу своего родича, Ивана Годунова. Головин настаивал на том, что Годуновы по происхождению своему не имеют права находиться в думе и уж тем более даровать своим родичам боярские чины.
Никита Романович понимал, что Головин делает так, как ему велят Шуйские, забравшие в свое распоряжение едва ли не всю казну. Если бы Борис проиграл тяжбу, он бы утянул за собой весь клан, но Никита Романович помог ему устоять – он и верные ему бояре, Сицкие и Голицыны, настаивали на проведении ревизии казны. Головин уже тогда сразу как-то помрачнел, а Шуйские не могли думе отказать в том. Ревизия проходила долго и тщательно, и выявлены были большие хищения, за коими стояли, конечно, и Шуйские, и Мстиславские. Потому им было легче предать верного им казначея и согласиться на его суд, итогов коего боярин Захарьин уже не увидел…
Здоровье Никиты Романовича подорвала окончательно смерть боярина Василия Юрьевича Голицына, близкого товарища, родича, мужа любимой племянницы Варвары. На похороны его прибыл со всеми сыновьями, старшие, Федор и Александр, вели боярина под руки – уже тогда чувствовал слабость. У гроба покойного, кроме самой Варвары, стояли ее сыновья – Петр и Иван, рожденные от брака с опричником Федькой Басмановым, и сыновья от второго мужа, князя Голицына, – Василий, Иван и Андрей. Варвара, увидев Никиту Романовича, крепко обняла его, разрыдавшись на груди любимого дяди. Молвила, что нет мочи пережить сие горе. И ведь Василий Голицын был совсем не стар, внезапно скончался по пути в Смоленск, куда был назначен воеводой. Никита Романович пообещал племяннице, что, покуда жив, будет опекать ее сыновей.
Уже через несколько дней после похорон князя Голицына Никиту Романовича хватил удар, когда он направлялся в государев дворец на прием к царю.
О том, что отцу сделалось худо, Федор Никитич Захарьин узнал, когда того уже подвозили к дому. В домашнем кафтане бросился во двор, в промозглую ноябрьскую сырь. Варварка тонула в густом тумане, из коего вынырнул отцов возок. Холопы тащили на руках безжизненное массивное тело боярина в дом.
– Лекаря! Лекаря зови! – крикнул он появившемуся перед лицом брату Ивану, махнул рукой выглянувшей из окна супруге своей, мол, уйди, и все время, пока лекарь за закрытой дверью осматривал отца, Федор ходил взад и вперед возле его покоев. Лекарь вышел растерянный, пожимал плечами и говорил, что отец жив, но у него отказали правая рука и нога, а также вся правая часть лица.
– Уж не счаровали ли боярина, – боязливо произнес лекарь, и Федор в сердцах велел идти ему прочь, а сам, толкнув дверь, вступил в покои. По пути брату Михаилу велел мчать во дворец, предупредить государя…
Никита Романович лежал, утонув в лебяжьей перине, словно мертвый. Лишь слабо под покровом вздымалась грудь. Федор сел у его ложа, взял отца за руку. Одного он боялся: неужели это Божья кара за кровь, что отец пролил, добиваясь власти? Не он ли причастен к смерти государя Иоанна? Об этом они никогда не говорили, но все же…
Сидя у ложа отца, такого разом ослабевшего, Федор Никитич ощутил страшную пустоту и страх: сможет ли он удержать то, что начато было батюшкой? Любимый народом, всюду узнаваемый и почитаемый, великий отец. Федор опустился перед ложем на колени, поднес тяжелую безжизненную длань Никиты Романовича к своему лицу и всхлипнул, сдерживая рыдания…
…Федор Никитич понял, что отец пришел в себя, когда почувствовал на своей макушке его тяжелую руку. Федор поднял голову и увидел, что левый глаз отца глядит на него пристально, второй так и остался закрытым. Он промычал что-то невнятное, рот его кривился на левую сторону. Федор подскочил к нему, наклонился над самым лицом:
– Батюшка, говори громче, мне не разобрать…
– Шлите… государю…
– Я отправил к нему Михаила, отец!
Никита Романович о чем-то еще хотел спросить, но, обессиленный, вновь откинулся на подушки. Федор хотел уже выйти, но остановился в дверях, обернулся. Сейчас или никогда! И он решился задать давно мучивший его вопрос. Он снова бросился к ложу отца и, нагнувшись над ним, прошептал:
– Отец, молю, скажи… Ты причастен?.. Причастен к смерти государя Иоанна? Прошу, отец, ответь… Есть ли сей грех на нашем роду?
Никита Романович открыл левый глаз и взглянул на сына с недоумением, словно не понимал, о чем тот его спрашивает, и ответил с усилием:
– Нет… Нет на мне… того… греха…
Федор Никитич шумно выдохнул, закрестился неистово, словно избавился, наконец, от тяготевших его мыслей. Увидев, что отец еще что-то пытается сказать, Федор наклонился к нему. С трудом ворочая языком, Никита Романович проговорил:
– Бориса… Держись… Бориса…
И, произнеся это, вновь лишился чувств.
* * *– Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших…
Склонив голову у киота, молился в одиночестве Борис Годунов. Ох, не вовремя подкосила болезнь всесильного Никиту Романовича! Без него положение Годуновых стало очень шатким. Ежели бы не Ирина и не ее брак с государем, страшно представить, как бы все сложилось сейчас. И Борис понимал, что его тяжба с казначеем Головиным – лишь первый удар от противников. Тогда помог выстоять Никита Романович, а теперь как быть?
И самое главное, Борис понимал, что не имел такого влияния на царя, как боярин Захарьин, с чьей железной волей Феодор никогда не спорил и во всем его слушался.
Даже ныне, когда выявились масштабные хищения в казне и Головина следовало бы за это казнить, Феодор заупрямился, мол, на это он никогда не пойдет и кровь проливать не желает. Но Борис понимал, что Головина надобно вывести на плаху, – пусть все недруги видят, чем все может для них окончиться! Пусть знают, что настали иные времена, что воровать, как раньше, им никто не даст. Хватит! И Борис, не выдержав, кричал на Феодора в его покоях, чуть не разорвав ворот на своем кафтане:
– Государь! Мне на самого себя – тьфу! Наплевать! За Россию пекусь, за тебя! Что ж, половина страны пеплом укрыта, басурмане грабят каждый год, поля обрабатывать некому. А они! Последнее! Так и будут воровать, пока не покажем им силу! На царство венчан ты с клятвой заботиться о своем народе! Так покуда обираем его, не будет любви к тебе.
– Ежели суд решит казнить, противиться не стану, – сдался наконец Феодор и отвел глаза.
А бывало, что Борис приходил к государю по иным делам, в коих Феодор вновь упрямился, и тогда Годунов падал пред ним на колени и молил освободить его от всех должностей:
– О тебе одном пекусь! Но ежели неугоден, ежели не надобен, отпусти, государь, из Москвы. Уеду с семьей! Не хочу видеть, как рушится все, что мы возводили с великим дядей твоим Никитой Романовичем!
Тогда Феодор не выдерживал, просил у Бориса прощения, задабривал порой подарками, и в итоге Борис все одно делал то, что было им задумано. А порой на помощь приходила Ирина, находившая способ донести до мужа, что надобно делать так, как сказал Борис, и государь, во всем ее слушавшийся, соглашался с супругой и здесь.
И все же было тяжко! Нет, Борис помнил противостояние с боярином Тулуповым, очередным любимцем Иоанна, и Годунов сумел его переиграть, Тулупов окончил жизнь на плахе. Но сейчас у Бориса были более могущественные противники. А надежды на выздоровление Никиты Романовича, с коим вместе он бы все выдержал, уже нет.
На днях Борис был призван им, и Годунов с болью и сожалением наблюдал, что произошло с одним из могущественнейших вельмож в державе. Теперь это был обросший седой бородой одноглазый старец с мертвыми недвижными губами, прикованный к постели. Вперив в лицо Бориса единственный свой зрячий глаз, боярин просил защищать и поддерживать всегда и во всем его большую семью. Борис, растроганный таким доверием, клялся исполнить волю Никиты Романовича, после чего при нем же обнялся с его сыновьями, как с родными братьями, подтверждая тем свою клятву. Хоть сыновья Никиты Романовича в большинстве своем были еще юнцами (кроме старшего, Федора, что был немногим младше Бориса), однако Захарьины и весь их могущественный клан волей Никиты Романовича остались на стороне Годуновых. Уже не в силах повлиять на что-либо, боярин Захарьин сохранил расстановку сил в Боярской думе…
И сейчас, стоя в одиночестве у икон, Борис подумал об Иове, верном друге своем и советнике, и затосковал еще пуще. Сейчас Иов находился в Коломне, будучи рукоположенным во епископа Коломенского и Каширского. Иов далеко, Никита Романович болен, и Борис во главе клана Годуновых стоял один против своих врагов…
И сейчас шальная мысль на мгновение озарила Бориса – ежели бы Иова можно было поставить митрополитом, это во многом облегчило бы положение дел! Да и к тому же знали Годуновы, что Дионисий с Шуйскими заодно. Что ж, всему время свое! Сейчас Дионисий прочно сидит на митрополичьем престоле. Ну ничего, ничего!
Окончив молитву, Борис поднялся с колен и перекрестился. Надлежало быть сильным, и он будет. Во имя семьи, во имя себя самого. Во имя державы.
4 глава
Карачин остров, окрестности Кашлыка.
Сибирское ханство
Дальше идти не было никакого смысла. Вьюга, секущая лицо мелкими острыми льдинками, усиливалась, далее вытянутой руки ничего не видать. К тому же за последние дни выпало слишком много снега, едва ли не по пояс. Архип, облаченный в грубо сшитую из соболиных шкур шубу, остановился, оглянувшись по сторонам. Из пелены метущего снега доносились окрики – отряд решил возвращаться в поселение. Попытки найти зверя снова не увенчались успехом. Вскинув пищаль на плечо, Архип двинулся в назначенное заранее место сбора. Сейчас он уже пожалел, что рискнул выйти на охоту: неимоверная слабость валила с ног, перед глазами все куда-то плыло. А вчера начали шататься во рту зубы…
Отряд собирался на равнине неподалеку от лагеря. Есаул Асташка, с коим Архип год назад участвовал в походе на хантов, был старшим в отряде.
– Ничего? – спросил он казаков. Из-под мехового капюшона его был виден лишь беззубый кровоточащий рот. Хворь, охватившая селение, вырвала ему все зубы.
– Дальше не пройти никак, – говорил Гришка Ясырь. – Снега по пояс… Сгинем там…
– Волчьи следы повсюду, – добавил кто-то из казаков. Мрачное молчание. Каждый в глубине души сокрушался, что поесть вдоволь снова не удастся, и сколькие умрут еще этой ночью?
Асташка повел отряд обратно к лагерю. Откуда-то слева, сквозь ледяной ветер, донесся вой и тявканье. Казаки с опаской глядели туда, но из-за снега ничего не было видно, однако все понимали, что волчья стая носится где-то рядом. Голодные, они повадились приходить к поселку, а недавно загрызли двух казаков, что так же прочесывали окрестность в поисках дичи. Их обглоданные промороженные трупы нашли неподалеку…
Селение на Карачином острове, куда Ермак увел зимовать свое войско, состояло из сооруженных за минувшее лето и осень бревенчатых срубов. Сейчас они едва не тонули в снегу, на крышах их собрались целые сугробы. В тесных клетушках казаки и стрельцы переживали сию страшную зиму. Оттуда каждый день выносили мертвых и укладывали в общую яму, обнесенную, от волков, высокой оградой. Вот и сейчас, когда отряд вернулся с неудачной охоты, туда волокли три безжизненных тела…
В этих клетушках было холодно, темно и смрадно, люди, лежащие вповалку, кашляли, бормотали в бреду несвязное, тихо молились. Не сумев даже отряхнуться от снега, Архип ввалился в свою клетушку.
– Сегодня опять ничего? – спросил Мещеряк со своего места, глядя на Архипа ставшими огромными на исхудавшем лице глазами. Архип отрицательно мотнул головой и, бросив в угол пищаль, прислонился к стене и медленно сполз на пол, не сняв шубы. Кряхтя, Мещеряк переступил через лежавшего поперек больного казака, сел над Архипом.
– Совсем худо? – спросил Матвей. Изо рта его, лишившегося уже нескольких зубов, тянуло гнилостным смрадом.
– Кажется, я уже даже поесть не смогу никогда. Забыл, что это такое, – усмехнувшись краем губ, отвечал Архип. Мещеряк, нахмурившись, снял с него меховой капюшон, пальцами пошарил в его сальных жидких волосах.
– У тебя под космами все в крови…
– А, – закрыв глаза, махнул рукой Архип. Он взглянул в дальний угол клетушки, где лежал князь Семен Болховский, неудавшийся сибирский воевода, посланный государем и боярами принять здешние земли из рук Ермака. И отряд его, уже истребленный всеобщей хворью и голодом, и был причиной тяжкого положения казаков. Архип хорошо помнил день, когда пришла долгожданная подмога из Москвы и как радость быстро сменилась страшным разочарованием.