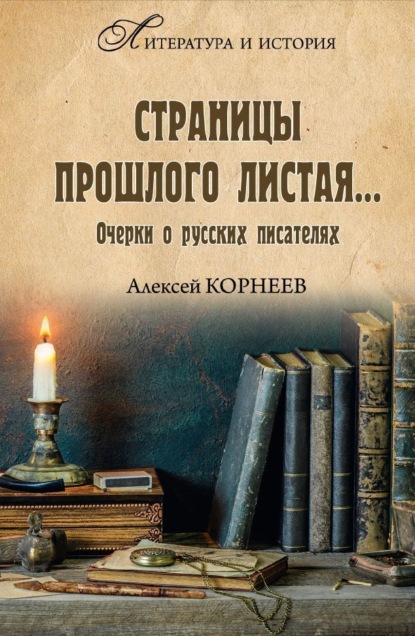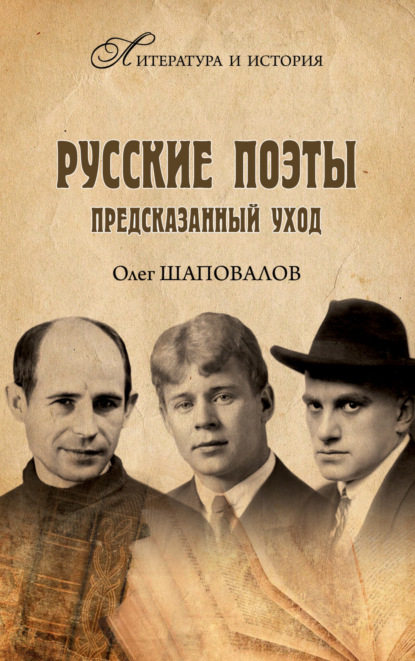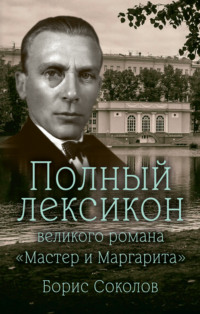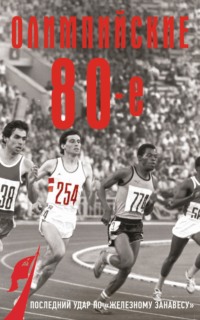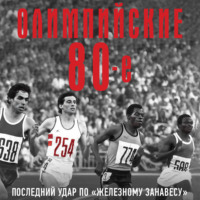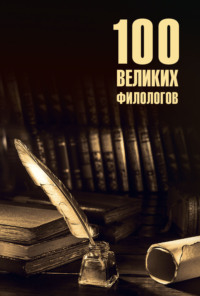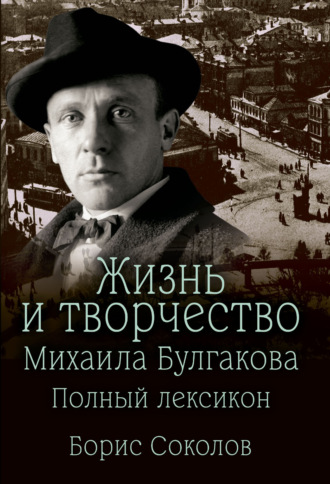
Полная версия
Жизнь и творчество Михаила Булгакова. Полный лексикон
В книге совершенно недостаточно выяснено значение мольеровского театра – его социальные корни, его буржуазная идеология, его предшественники и продолжатели, его борьба с ложноклассическими традициями аристократического канона (что это такое, наверняка не знали не только Мольер и Булгаков, но, думается, и сам А.Н. Тихонов. – Б. С.).
Литературная генеалогия пьес Мольера – также неубедительна и ограничивается уголовными ссылками на заимствования и плагиаты (почему-то советская литературно-критическая традиция с самого начала очень не жаловала всякие упоминания о заимствованиях, не умея и не желая различить заимствование и плагиат. Самого Булгакова в печати обвиняли, что он чуть ли не украл из повести Алексея Николаевича Толстого (1882/83—1945) «Ибикус» (1924–1925) идею тараканьих бегов в пьесе «Бег» (правда, за эмигранта Аркадия Аверченко (1881–1925), у которого эти бега в рассказах тоже присутствуют, никто заступаться не спешил). Советская идеология мифологизировала всех выдающихся людей прошлого и настоящего. Поэтому плоды творчества гениев следовало представлять как нечто абсолютно самобытное, оригинальное и неповторимое, чего, как известно, не может быть в природе человека. Эта традиция позднее, с конца 60‐х г., постепенно переносилась и на творчество канонизируемого Булгакова, в отношении которого стало дурным тоном говорить о заимствованиях, хотя концентрация литературных источников в бул-гаковских произведениях, особенно в «Мастере и Маргарите», едва ли не наивысшая в мировой литературе, что вовсе не мешает оригинальности авторам. – Б. С.).
Рассказчик неоднократно упоминает имена Корнеля, Расина, Шапеля и других современников Мольера. Но какие же сведения об них мы получаем? Корнель – был влюблен в Дю-Парк, Расин – был интриганом, Шапель – пьяницей. И это почти все! А что они делали и писали, какова их роль в литературе и театре – об этом нет почти ничего.
Помимо этого и других крупных недостатков, Ваш рассказчик страдает любовью к афоризмам и остроумию (страшное преступление с точки зрения редактора-марксиста. – Б. С.). Некоторые из этих афоризмов звучат по меньшей мере странно. Например: «Актеры до страсти любят вообще всякую власть», «Лишь при сильной и денежной власти возможно процветание театрального искусства», «Все любят воров, потому что возле них всегда светло и весело», «Кто разберет, что происходит в душе у властителей людей» и прочее в этом роде.
Он постоянно вмешивается в повествование со своими замечаниями и оценками, почти всегда мало уместными и двусмысленными (о ящерицах, которым отрывают хвост, о посвящениях, которые писал Мольер высоким особам, о цензуре и пр.). За некоторыми из этих замечаний довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность, особенно в тех случаях, когда это связано с Вашей личной биографией (об авторе, у которого снимают с театра пьесы, о социальном заказе и пр.). (Похоже, А.Н. Тихонов всерьез опасался: читатели могут подумать что «актеры до страсти любят советскую власть», что советские партийные и государственные деятели, покровительствующие театру, много воруют, что души у советских властителей совсем не светлые, и т. д. – Б. С.)
Зато вполне недвусмысленны его высказывания, касающиеся короля Людовика XIV, свидетельствующие об том, что рассказчик склонен к роялизму (тут А.Н. Тихонов ошибся, не зная резких булгаковских отзывов в дневнике «Под пятой» о династии Романовых. – Б. С.).
Людовик XIV для него – «серьезный человек на троне», «лицо бесстрастное и безупречное» (иронии враг остроумия А.Н. Тихонов тоже не воспринимает, или просто предпочитает не обращать на нее внимание, чтобы приблизить свой отзыв к столь популярному тогда жанру литературного доноса. – Б. С.), он храбрый полководец и занят в «кругу своих выдающихся по уму министров». Он всегда галантен, вежлив и справедлив. Вместо ссылок на исторические материалы, Ваш рассказчик любит черпать свою информацию из каких-то сомнительных источников. Его рассказ то и дело пестрит выражениями: «как говорят», «поговаривают», «прошел слух», «злые языки болтают» и т. д. Все это придает его рассказу характер недостоверной сплетни даже в тех случаях, когда он излагает бесспорные факты.
И вообще, у этого человека большая любовь ко всякого рода сомнительным, альковным закулисным историям и пересудам. Вспомните только, с каким азартом и как подробно он излагает «пикантную» сплетню о сожительстве Мольера с дочерью.
Ко всему прочему он обладает, по-видимому, большими оккультными способностями, иначе откуда бы он мог узнать, что чувствовал, видел и слышал Мольер в момент своей смерти или сколько раз снился Мольер Филиппу Орлеанскому (автор утверждает, что всего «один раз»).
Да и вообще рассказчик верит в колдовство и чертовщину.
Его Мольер «пылает дьявольской страстью». Рукописи Мольера «колдовским образом сгинули». Таким же «колдовским образом» рассказчик проникает в тайну женитьбы Мольера…
Если все это сопоставить, то получается отчетливый портрет бойкого, иногда блестящего благера-мещанина (от французского blagueur, т. е. хвастун, насмешник, враль. – Б. С.), может быть, близкого эпохе Мольера, но никак не приемлемого в качестве лектора для нашего, советского слушателя.
А между тем, как я уже говорил, идея Ваша передать биографию Мольера устами выдуманного рассказчика – очень удачна.
Если бы Вы вместо этого развязного молодого человека в старинном кафтане, то и дело зажигающего и тушащего свечи, дали серьезного советского историка (очевидно, в XVII в. такого историка пришлось бы перемещать с помощью машины времени, вроде той, что была в булгаковских пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич», но тогда М., вероятно, превратился бы в фантастический роман; интересно, что работа над этими пьесами началась уже после отзыва А.Н. Тихонова и, как знать, не подсказал ли этот отзыв, наряду с другими источниками, переместить советских инженера-изобретателя, управдома и вора домушника в XVI и XXIII в.? – Б. С.), он бы мог много порассказать интересного о Мольере и его времени. Во-первых, – он рассказал бы о социальном и политическом окружении Мольера, о его роли литературного и театрального реформатора. Об истории театра до и после Мольера. Об театре – аристократическом, буржуазном и народном. Об их репертуаре и публике. Об существующих тогда теориях театрального искусства и борьбе этих теорий. Об устройстве театральной сцены, начиная от королевского театра до бродячих трупп. Об взаимоотношениях между антрепренерами и труппой и об целом ряде других интересных вещей, связанных с этой театральной эпохой.
Все это Вам, как специалисту по театру и знатоку Мольера, известно, конечно, лучше меня. Тогда почему же произошло такое досадное недоразумение с Вашей работой?
По-видимому, Вы либо не поняли задач нашей серии – хотя и лично, и письменно мы Вас об них осведомляли, либо, создав для себя тип воображаемого рассказчика, вполне пригодного для первой части книги. Вы невольно, как художник, стали его развивать и в конце концов сами попали в его руки (отметим оригинальное решение А.Н. Тихоновым сложной теоретической проблемы, в каком соотношении находятся писатель, создавший текст, и введенная им в произведение фигура рассказчика: согласно редактору «ЖЗЛ» выходит, что рассказчик свободно может захватывать писателя в плен. – Б. С.).
Так или иначе, но из всего сказанного выше нетрудно сделать неизбежный вывод – книга в теперешнем виде не может быть предложена советскому читателю. Ее появление вызовет ряд справедливых нареканий и на издательство и на автора. Книгу необходимо серьезно переработать. Я не сомневаюсь, что Вам нетрудно будет это сделать, если Вы, откинув отдельные, может быть, ошибочные мои замечания, согласитесь с основным – это не тот Мольер, каким его должен знать и ценить советский читатель.
Вы меня простите, Михаил Афанасьевич, что написал это все может быть резко и неуклюже (в неуклюжести автору отзыва, по-своему замечательного, не откажешь. – Б. С.) – но я иначе не умею.
Если Вы согласитесь взять на себя дальнейшую работу над рукописью, я, разумеется, готов более подробно в личной беседе изложить свою точку зрения (до личной беседы у Тихонова с Булгаковым дело так и не дошло. – Б. С.).
Как Вы просили, я послал Вашу рукопись Алексею Максимовичу.
Подождем, что он скажет».
Мнение основателя советской серии «ЖЗЛ» Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936), что неудивительно, совпало с мнением А.Н. Тихонова, которому он написал 28 апреля 1933 г.: «В данном виде это – несерьезная работа и Вы правильно указываете – она будет резко осуждена». Вторая жена Булгакова Л.Е. Белозерская, одно время работавшая вместе с А.Н. Тихоновым в серии «ЖЗЛ», передает с его слов позднейшую устную характеристику Горьким булгаковского М.: «Что и говорить, конечно, талантливо. Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет…»
Уже 12 апреля 1933 г., не дожидаясь горьковского отзыва, Булгаков в ответном письме А.Н. Тихонову категорически не согласился с замечаниями редактора. Он утверждал: «Вопрос идет о полном уничтожении той книги, которую я сочинил и о написании взамен ее новой, в которой речь должна идти совершенно не о том, о чем я пишу в своей книге.
Для того чтобы вместо «развязного молодого человека» поставить в качестве рассказчика «серьезного советского историка», как предлагаете Вы, мне самому надо было бы быть историком. Но ведь я не историк, я драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж, находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчетливо вижу своего Мольера. Мой Мольер и есть единственно верный (с моей точки зрения) Мольер и форму для донесения этого Мольера до зрителя (драматическая описка: не зрителя, а читателя. – Примечание Булгакова. – Б. С.) я выбрал тоже не зря, а совершенно обдуманно.
Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уж никак не мог переписать ее наизнанку. Помилуйте!
Итак, я, к сожалению, не могу переделывать книгу и отказываюсь переделывать. Но что ж делать в таком случае?
По-моему, у нас, Александр Николаевич, есть прекрасный выход. Книга непригодна для серии. Стало быть, и не нужно ее печатать. Похороним ее и забудем!»
17 ноября 1933 г. редакция «ЖЗЛ» известила Булгакова о своем окончательном отказе от публикации М.
Замечания А.Н. Тихонова к М. удивительным образом бьют именно по тем особенностям книги, которые делают ее привлекательной для читателей. К счастью для них, Булгаков переделывать М. не стал. Советский канон биографий деятелей прошлого и настоящего допускал только их мифологическое изображение. Тех, кто официально был признан выдающимся и для своего времени «прогрессивным», требовалось писать по преимуществу светлыми красками, а к допустимым недостаткам «прогрессистов» относилась разве что недооценка передовой роли того или иного класса или явления. Такие современники Мольера, как Пьер Корнель (1606–1684), Жан Расин (1639–1699) и уж тем более религиозный вольнодумец Клод Эманюэль Шапель (1626–1686), относились к числу положительных героев мифа, упоминать об их пьянстве или склонности к интригам считалось дурным тоном. Наоборот, монархов, вроде Людовика XIV, и вообще аристократов надо было изображать карикатурно в качестве отрицательных культурных героев. Творческая же личность как таковая ревнителей канона не интересовала. Место живого драматурга в биографии тот же Тихонов гораздо охотнее отдал бы подробному описанию устройства театральной сцены, интересному на самом деле только для специалистов. Требования же, предъявленные им к М., больше годились бы для обширного научного трактата по социально-политической или социо-культурной истории эпохи Людовика XIV. А уж подозрительное отношение даже к метафорическому упоминанию дьявольской или колдовской силы вообще анекдотична и показывает, как мало шансов было в то время и на публикацию «Мастера и Маргариты», где мистическое начало, связанное с Воландом и его свитой, играет куда более важную роль, чем в М.
Слабая надежда на издание М. появилась, когда в октябре 1933 г. А.Н. Тихонова в редакции «ЖЗЛ» на время сменил Лев Борисович Каменев (Розенфельд) (1883–1936). 1 ноября 1933 г. Е.С. Булгакова зафиксировала в дневнике его мнение о рукописи со слов секретаря «ЖЗЛ» Н.А. Экке: «– Каменеву биография Мольера очень нравится, он никак не соглашается с оценкой Тихонова. Ждет его приезда из отпуска для того, чтобы обсудить этот вопрос с ним. Я очень надеюсь, что биография все-таки будет напечатана у нас». Вероятно, другой отзыв того же Л.Б. Каменева отмечен в дневнике Е.С. Булгаковой 21 сентября 1933 г. со ссылкой на Н.А. Экке, которая «рассказывала: «какой-то партийный работник из «Academia» говорил:
– Вы дураки будете, если не напечатаете. Блестящая вещь. Булгаков великолепно чувствует эпоху, эрудиция громадная, а источниками не давит, подает материал тонко» (временный заместитель А.Н. Тихонова до прихода в «ЖЗЛ» руководил издательством «Academia»).
Ирония судьбы заключалась в том, что в 1926 г. Л.Б. Каменев, тогда занимавший гораздо более высокое положение одного из признанных партийных вождей, решительно воспрепятствовал публикации «Собачьего сердца». Позднее вождь впал в опалу и, кажется, научился гораздо терпимее относиться к литературным произведениям. Однако после убийства 1 декабря 1934 г. секретаря Ленинградской парторганизации С.М. Кирова (Кострикова) (1886–1934) Л.Б. Каменев был репрессирован, так что в дальнейшем его положительный отзыв мог бы только повредить М.
Некоторые реалии М. неожиданным образом преломились в «Мастере и Маргарите». Вот описание театрального зала во дворце герцога Филиппа Орлеанского Малый Бурбон, где играла труппа Мольера, будучи Труппой Господина Единственного Брата Короля: «На главном входе Малого Бурбона помещалась крупная надпись «Надежда», а самый дворец был сильно потрепан, и все гербы в нем и украшения его попорчены или совсем разбиты, ибо междоусобица последних лет коснулась и его. Внутри Бурбона находился довольно большой театральный зал с галереями по бокам и дорическими колоннами, между которыми помещались ложи. Потолок в зале был расписан лилиями, над сценой горели крестообразные люстры, а на стенах зала – металлические бра… Театральная жизнь в Бурбоне прервалась тогда, когда началась Фронда, потому что в Бурбонский зал сажали арестованных государственных преступников, обвиняемых в оскорблении величества. Они-то и испортили украшения в зале». В «Мастере и Маргарите» театральный зал Малого Бурбона видит в своем сне арестованный за хранение долларов в уборной управдом Никанор Иванович Босой, и в этом зале сидят (в буквальном смысле сидят на полу, в отличие от фрондеров XVII в.) государственные преступники, подозреваемые в еще более страшном преступлении, чем оскорбление величества – в сокрытии от государства валюты и прочих ценностей. Босой «почему-то очутился в театральном зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах кенкеты. Все было как следует, как в небольшом по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже публика».
По сравнению с эпохой Людовика XIV и Мольера государственные преступники в «Мастере и Маргарите» кажутся мельче – не на королевскую власть покушаются, а всего лишь пытаются скрыть от властей золотые десятки, валюту да драгоценности. Однако показательно, что в советском обществе пятиконечные звезды – символ коммунистической идеи и аналог королевских бурбонских лилий на занавесе в М. превратились в золотые десятки. Государство во времена Булгакова стремилось выжать из своих граждан как можно больше ценностей. В М. писатель ловко обыграл латинское словосочетание «оскорбление величества» – «laesio majestatis» из Закона об оскорблении величества, активно использовавшемся при римском императоре Тиберии (43 или 42 до н. э. – 37 н. э.) для преследования его врагов. Буквальный перевод «laesio majestatis» – умаление, ущерб или порча величества. Поэтому заключенные в театральный зал Малого Бурбона обвиняемые в «оскорблении величества» и «испортили украшения», причем эти украшения оказываются связанными с символикой королевской власти. В «Мастере и Маргарите» закон об оскорблении величества становится причиной малодушия Пилата, убоявшегося отпустить Иешуа. В современном же мире «Мастера и Маргариты» «оскорбление величества» власти звучит пародийно и выражается в отказе отдать ей золотые десятки – весомый заменитель мнимых бумажных десяток-червонцев, которыми одаривают подручные Воланда московскую публику на сеансе в Театре Варьете. Подлинные произведения театрального искусства, которые в М. играла в театральном зале Малого Бурбона труппа Мольера, а до нее – королевский балет и итальянцы, в «Мастере и Маргарите» спародированы выступлениями «драматического артиста» Куролесова и других, агитирующих сдавать накопления. Если в М. над главным входом во дворец Малый Бурбон помещается надпись «Надежда», что, имея в виду печальную судьбу узников театрального зала, заставляет вспомнить дантовское «Забудь надежду, всяк сюда входящий» перед входом в ад в «Божественной комедии» (1307–1321) Данте Алигьери (1265–1321), то в «Мастере и Маргарите» Никанор Иванович видит только вспыхивающие на стенах «красные горящие слова: «Сдавайте валюту!» – современную копию библейских «мене, мене, текел, упарсин» – пророчества вавилонскому царю Валтасару скорой гибели (Дан., 5). Советский театр, в сравнении с мольеровским, выродился в примитивное агитационное представление.
Интересно, что единственный абзац М., содержащий своеобразный сравнительно-исторический подход к исследуемой теме, но противоположный тому, который требовал от Булгакова А.Н. Тихонов, похоже, сознательно был купирован автором при отсылке рукописи в издательство, а позднее, вплоть до 1990 г. не воспроизводился из-за цензурной неприемлемости во всех советских изданиях М. Вот это обращение рассказчика к акушерке, принимающей Мольера: «Добрая госпожа, есть дикая страна, вы не знаете ее, это – Московия, холодная и страшная страна. В ней нет просвещения, и населена она варварами, говорящими на странном для вашего уха языке. Так вот, даже в эту страну вскоре проникнут слова того, кого вы сейчас принимаете». А в рукописи М. остались слова, вообще пародирующие «классовый» и «идеологический» подход, который Булгаков высмеял еще на примере репетиции пьесы драматурга Дымогацкого в «Багровом острове». Приведем пассаж, как бы предвосхитивший требуемого А.Н. Тихоновым историка-марксиста в качестве рассказчика: «Здесь я в смущении бросаю проклятое перо. Мой герой не выдержан идеологически. Мало того, что он сын явного буржуа, сын человека, которого наверное бы лишили прав в двадцатых годах XX столетия в далекой Московии, он еще к тому же воспитанник иезуитов, мало того, личность, сидевшая на школьной скамье с лицами королевской крови.
Но в оправдание свое я могу сказать кое-что.
Во-первых, моего героя я не выбирал. Во-вторых, я никак не могу сделать его ни сыном рабочего, ни внуком крестьянина, если я не хочу налгать. И, в-третьих, – относительно иезуитов. Вольтер учился у иезуитов, что не помешало ему стать Вольтером».
К счастью Булгакова, ни А.Н. Тихонов, ни А.М. Горький, ни Л.Б. Каменев не знали о том, что рассказчику в старинном кафтане, пишущему роман при свечах гусиным пером (подобная участь уготовлена Мастеру в последнем приюте), в ранней редакции М. предшествовал рассказчик – булгаковский современник. Иначе последний вряд ли бы отважился на положительный отзыв о М., а двое других сделали бы в своих рецензиях еще более резкие выводы, которые вполне могли бы привести и к репрессиям со стороны власть имущих по отношению к Булгакову.
Мольер в М. родственен Мастеру в последнем булгаковском романе. Вместе с тем он находится в более завидном положении, чем герой «Мастера и Маргариты» и его создатель. Мольер все-таки способен ставить и публиковать свои пьесы, пусть иной раз и пресмыкаясь перед королем и имея могущественных противников в лице высших церковных иерархов Франции. Булгаковский Мастер лишен возможности обнародовать свое гениальное произведение и может увидеть напечатанным лишь один отрывок из него. Однако эта публикация приводит к погубившей его травле со стороны идеологически ангажированных критиков. Сам же Булгаков находился в положении, более близком к положению автобиографического Мастера, чем главного героя М. Его пьесы, за редким исключением, на сцене так и не появились, а в печати его произведений не было с 1928 г. и до самой смерти. Потому-то М. написан гораздо оптимистичнее «Мастера и Маргариты»: если в начале 30‐х гг. Булгаков еще надеялся на перемены к лучшему в своей судьбе, то, дописывая последний роман, уже будучи смертельно больным, он уповал лишь на посмертную славу.
В черновике к М. Булгаков сделал выписку из брошюры священника церкви Св. Варфоломея Рулле с такой характеристикой Мольера: «Демон, вольнодумец, нечестивец, достойный быть сожженным». Эта цитата отразилась в заключительных строках эпилога М.: «Итак, мой герой ушел в парижскую землю и в ней сгинул. А затем, с течением времени, колдовским образом сгинули все до единой его рукописи и письма. Говорили, что рукописи погибли во время пожара, а письма будто бы, тщательно собрав, уничтожил какой-то фанатик. Словом, пропало все, кроме двух клочков бумаги, на которых когда-то бродячий комедиант расписался в получении денег для своей труппы». В «Мастере и Маргарите» с помощью Воланда «колдовским образом» возрождается сожженная главным героем рукопись о Понтии Пилате.
Среди идущих за гробом Мольера в М. упоминается баснописец Жан де Лафонтен (1621–1695). В сцене сна Никанора Ивановича Босого в «Мастере и Маргарите» «баснями Лафонтена» называет театральный ведущий отговорки арестованных, что у них нет золота и валюты. Лафонтен, не побоявшийся публично отдать последние почести осуждаемому церковью комедиографу, в главном булгаковском романе упоминается в уничижительном смысле карикатурным представителем новой власти, власти, удивительно схожей с «кабалой святош» – клерикальным тайным «Обществом Святых даров», боровшимся против «Тартюфа» (1664) и других мольеровских пьес.
«Театральный роман»
Роман, имеющий подзаголовок «Записки покойника». При жизни Булгакова не закончен и не публиковался. Впервые: Новый мир. М., 1965, № 8. На первой странице рукописи автографа романа читаем:
«М. Булгаков
Записки покойника. 26. XI 36 г.
Театральный роман».
Сначала было только «М. Булгаков» и «Театральный роман», а затем между этими строчками было вписано буквами несколько меньшего размера, чтобы уместить в оставшийся промежуток, «Записки покойника» – то ли в качестве подзаголовка, то ли в качестве альтернативного названия. Некоторые исследователи полагают, что «Записки покойника» являются основным названием романа, а «Театральный роман» – подзаголовком. На наш взгляд, подзаголовок «Театральный роман» к названию «Записки покойника» совершенно невероятен. Дело в том, что название «Театральный роман» определяет основное содержание произведения – роман главного героя, драматурга Максудова, с Независимым Театром, и роман как литературное творение, посвященное театральному миру и оставшееся в посмертных записках покончившего с собой драматурга. Неслучайно ранняя редакция Т. р., упоминаемая в письме Булгакова правительству 28 марта 1930 г. как сожженная после получения известия о цензурном запрете пьесы «Кабала святош», названа романом «Театр». «Записки покойника» – это специфическое, с грустной иронией, определение жанра произведения, и в качестве основного названия оно выступать никак не может. Не исключено, что этот подзаголовок – дань традиции. Здесь можно прежде всего вспомнить роман великого английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870) «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837) (в мхатовской инсценировке этого романа Булгаков успешно играл роль Судьи), а также мемуарные «Замогильные записки» (1849–1850) известного французского писателя-романтика и политического деятеля виконта Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), предназначавшиеся к публикации только после смерти автора, как и рукопись Максудова в булгаковском романе.
Начало работы над Т. р. относится к концу 1929 г. или к началу 1930 г., после написания незавершенной повести «Тайному другу». События, запечатленные в этой повести, послужили материалом и для Т. р. Первая редакция Т. р., называвшаяся «Театр», была уничтожена 18 марта 1930 г. Работу над Т. р., по свидетельству его третьей жены Е.С. Булгаковой, писатель возобновил 26 ноября 1936 г., вскоре после перехода из МХАТа либреттистом-консультантом в Большой театр. Сюжет Т. р. был во многом основан на конфликте Булгакова с главным режиссером Художественного театра Константином Сергеевичем Станиславским (Алексеевым) (1863–1938) по поводу постановки «Кабалы святош» в МХАТе и последующим снятием театром пьесы после осуждающей статьи газеты «Правда». 24 февраля 1937 г. писатель, как зафиксировано в дневнике его жены, впервые читал отрывки из Т. р. своим знакомым, причем «чтение сопровождалось оглушительным смехом». 3 июня 1937 г. он читал роман мхатовцам – художникам В.В. Дмитриеву (1900–1948) и П.В. Вильямсу (1902–1947), сестре Е.С. Булгаковой О.С. Бокшанской (1891–1948), работавшей секретарем основателя Художественного театра Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858–1943), ее мужу артисту Е.В. Калужскому (1896–1966), а также администратору театра Ф.Н. Михальскому. Как записала Е.С. Булгакова, сцена репетиции, напоминавшая о «Кабале святош», «всем понравилась». Позднее последовало еще несколько чтений Т. р. Однако, как вспоминала Е.С. Булгакова, в 1938 г. писатель «отложил «Записки» для двух своих последних пьес («Дон Кихот» и «Батум». – Б. С.), но главным образом для того, чтобы привести в окончательный вид свой роман «Мастер и Маргарита». Он повторял, что в 1939 году он умрет и ему необходимо закончить Мастера, это была его любимая вещь, дело его жизни. И «Записки покойника» оборвались на незаконченной фразе».