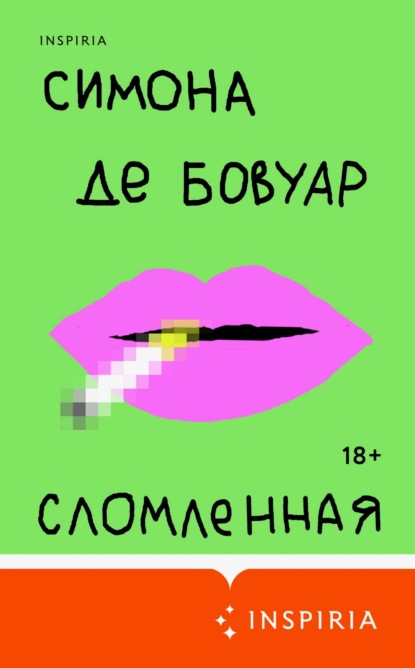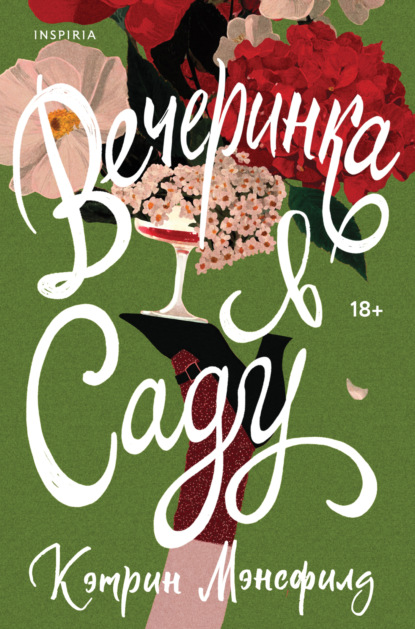Полная версия
Злые духи
– Боже мой, как глупа эта прислуга! Вас проводили в приемную брата, да еще оставили в темноте!
Она повернула выключатель, и комната осветилась.
Дора протянула Ремину обе руки.
– Oh, que je suis heureuse de vous voir! Как вы милы, что пришли ко мне! Вы не поверите, как я бранила брата, что он целую неделю не говорил мне, что вы – вы. Ведь вчера случайно о вас заговорила одна дама… Я сказала, как я хочу с вами познакомиться, а он говорит: «Да ты уже с ним знакома», я его чуть не побила. Ведь я ваша страстная поклонница. Я глупо, до безумия влюблена в вашу картину…
Я ведь теперь живу только искусством! Им одним. Я покончила с личной жизнью… Жизнь так мелка и ничтожна… Il n'y a que l'art! Это одно существует для меня… Пойдемте обедать.
Она взяла его под руку и повела к двери.
Ему стало еще веселей, когда он увидел ее, такую «забавно-прелестную» в ее нарядном туалете.
Проходя к двери, он опять взглянул на портрет и с некоторым удивлением спросил:
– Это ваш предок?
– А-а! И вы нашли сходство с Лелем! – воскликнула она, захлопав в ладоши. – Не правда ли, это удивительно! Мы наняли этот дом у маркизы du Bissot с мебелью. Эта милая старушка всегда живет в своем замке в Бретани. А этот павильон – маленький музей, я вам потом его покажу… Ах, да этот chevalier Mongrus был придворным при Людовике XIV, отличный музыкант, блестящий ум, но ужасный негодяй! Ментенон… вы знаете, была ужасная ханжа в последние годы, потребовала, чтобы король приказал ему жениться и выбрала в жены m-llе… Ах, я забыла ее фамилию, какая-то испанская. Вот ее портрет.
Дора указала на портрет совсем юной женщины в желтом роброне с жемчугом в черных волосах.
– Он, этот chevalier, занимался черной магией, служил черные мессы, но короля не посмел ослушаться, и вот через месяц его жена зарезала его… О, как в то время люди были цельны! Я понимаю, что есть обиды непростимые, но кто же из нас решится смыть их кровью!
Идемте же… там у меня очень милое общество.
* * *В высокой, большой столовой, несмотря на люстру с множеством лампочек, углы были темны.
Обшивка стен из темного дуба окаймляла два великолепных гобелена, свадебный подарок герцога Орлеанского chevalier Mongruss'y.
На столе лиловые хризантемы между бутылками вина и вазами с фруктами.
На белоснежной скатерти блистали серебро, хрусталь и нежное сиреневое стекло венецианских бокалов.
Ремин оглядел общество за столом.
На одном конце сидела хозяйка, справа от нее старый профессор Сорбонны, слева известная русская певица, уже пожилая, черная, почему-то считающаяся красавицей. Она сидела томная и гордая, вся сверкая бриллиантами. Vis-a-vis нее помещалась худенькая, тоже очень немолодая дама в изящном оранжевом туалете и высокой модной прическе. Это была знаменитая драматическая французская артистка, известная всему Парижу под названием La belle Alice.
Она скучала, потому что профессор беседовал с хозяйкой и певицей, а другой ее кавалер, Павел Приклонский, не говорил по-французски.
Очевидно, гости были рассажены по мере их знаменитости, потому что его дама слева, французская журналистка, бойкая особа лет за тридцать, почти вылезшая из своего декольте, назвала ему присутствующих ровно до половины стола и выразилась: «Et plus loin c'est la foule»[2].
Эта foule, сидящая на конце Чагина, почти исключительно состояла из русских.
На этом конце было веселье. Там закурили чуть не после супа, туда как-то столпились бутылки со всего стола, и слышался веселый раскатистый смех Тамары Крапченко.
– Кто сочинил легенду о французском веселье? Это легенда, такая же легенда, как и французская вежливость! – раздавался ее звучный голос. – Скажите, где у них веселятся? На балу Бюлье, что ли? Так и у нас в танцульке Народного дома или в Варьете – весело. Нет, вы вот соберите так называемую приличную публику – сейчас начнут пыжиться. И кто, скажите мне, сочинил о французской безнравственности? Нет нации добродетельней французов. Даже падшие женщины у них добродетельны. Все их так называемые притоны – только для иностранцев. Я однажды спросила одну девицу, служащую в доме с окошечками, не тяготится ли она своим положением, а она отвечает: «C'est un metier, comme un autre. J'ai mes parent au province»[3]. И верно, это она для «паранов». Соберет денег с иностранцев и опять будет добродетелью. А дурак иностранец радуется: вот-то я чудовище порока нашел. Не понимает, что она это, как по учебнику, параграф такой-то!
Хозяйку коробило поведение ее гостей на другом конце стола, она делала нетерпеливые знаки брату, но тот их не замечал, усердно подливая вина своим гостям, отчего разговоры делались все громче, а табачный дым гуще.
* * *– Пойдемте ко мне пить кофе, – сказал Чагин, беря под руку Ремина, когда гости стали вставать из-за стола, – а то la belle Alice начнет читать монолог из Федры – это нестерпимо.
В кабинете Чагин усадил своего гостя в единственное мягкое кресло, а сам, присев на край стола, налил ему кофе.
Маленькая чашечка на ножке, плоская почти как тарелочка, привлекла внимание Ремина оригинальным рисунком золотой сети, в которую запутались голубые амуры.
– Какой красивый рисунок.
– Подделка под старинное. Сестру надул этим сервизом один мой большой приятель. Она заплатила за них какую-то баснословную цену и потом послала меня объясняться. Он очень резонно мне ответил: «Тут написано „Кузнецов“ – зачем же было это принимать за Севр?» Этот Анисим Трапезонов очень интересная личность.
– Вы знаете Трапезонова? – спросил Ремин. И сам рассердился на себя за чувство какой-то боли в сердце.
– Да, довольно хорошо. Перед отъездом в Париж мы нанимали квартиру в их доме на Почтамтской. У сестры был фокстерьер, а у Варвары – кот. Они вечно дрались, и на этой почве произошло знакомство. Сестра была большой приятельницей Варвары.
– Я хорошо знаком с Варварой Анисимовной, она очень милая девушка, – сказал Ремин и вдруг почувствовал, что краснеет.
Краснеет, как мальчишка, и, не смотря на своего собеседника, знает, что по этим розовым, нежным губам плывет насмешливая улыбка.
* * *– Варвара Анисимовна действительно очень милая девушка, – заговорил после минуты молчания Леонид, закуривая папиросу. – Воспитанная, образованная.
Я иногда удивлялся, каким образом из комбинации Анисима и его покойной перины получилась такая дочь. Я не имел удовольствия знать m-mе Трапезонову, но, судя по портретам, это была, должно быть, исключительно глупая особь, впрочем, этот вид у нее получился от колоссальной толщины. Варваре Анисимовне следует опасаться того же. Злые языки рассказывают, что Анисим, разгневавшись на свою супругу, неудачно хватил ее кулаком, чем и ускорил ее кончину. Моя сестра слышала от няньки Варвары, что жена и теща, узнав, что Трапезонов завел на стороне какую-то даму, собрали старичков – они обе были еще по старой вере – и собрались изгонять злого духа из Анисима, тот так взбесился, что старичков выгнал, а жену и тещу избил. Теща была худенькая старушонка и осталась жива, а m-me Трапезонову хватил удар. Дело как-то замяли. И пока была жива теща, она была хозяйкой в доме. Трапезонов, боясь ее доноса, терпел, а Варвара Анисимовна под руководством бабушки, наверно, была бы иначе воспитана, но бабушка умерла, едва внучке минуло восемь лет! Трапезонов вздохнул, нанял дочери француженку и англичанку, сам оделся в европейское платье и пошел делать дела.
Ремин во время рассказа Чагина совершенно оправился от смущения. Он досадовал на себя, что чувство какой-то тяжести не проходило, и спросил довольно некстати:
– Вы думаете возвратиться в Россию?
– Навсегда – нет, но, наверное, придется скоро ехать туда – сестра разводится со своим мужем. Это тянется уже несколько лет, он все не хочет дать развода… Ах, вы и не сказали мне, какое впечатление произвел на вас наш дом. Вы заразили меня, и мне кажется, что характер дома имеет влияние на его обитателей… – Этот кабинет, – обвел он рукою комнату, – безразличен. Вы видите, я довел простоту до того, что она граничит уже с отсутствием комфорта. У меня нет ни портьер, ни мягкой мебели, кроме кресла, на котором вы сидите. Это даже не кабинет человека, занимающегося наукой, – это контора – приличная торговая контора. Я сделал это, чтобы не поддаться домовым этого дома. Домовыми, которые любят громоздкую, тяжелую, душную роскошь. Роскошь эта охватывает вас – вы сами делаетесь тяжелым, неповоротливым и мечтательным. Я даже досадую на вас, что вы заразили меня вашей фантазией.
Он говорил, улыбаясь, тихим ласковым голосом, слегка нагнувшись к Ремину.
Алексей Петрович рассеянно взглянул на него и опять почему-то смутился: ему показалось, что зеленоватые глаза Леонида читают его самые сокровенные мысли, но это не было неприятно, наоборот, ему вдруг захотелось что-то сказать – заговорить дружески, ласково, в чем-то сознаться, но в чем, он не знал. И это лицо казалось ему бесконечно милым.
– А, вот где вы! Лель, это несносно – ты всегда прячешься! – раздался в дверях голос Доры.
«Он похож на нее!» – вдруг догадался Ремин о причине этого внезапного прилива нежности к Леониду. «Однако, как я сильно влюблен!» – думал Ремин, улыбаясь Доре, которая вела его в гостиную, и с трудом удержался, чтобы не поцеловать ее хорошенькую ручку, лежащую на рукаве его жакета.
* * *В гостиной гости расположились группами, слушая музыку Маршова.
– Сядем тут, – сказала Дора, указывая Ремину на низкую банкетку около кресла, на котором она уселась, приняв небрежную позу и вытянув свои изящные ножки на вышитую подушку.
– Ах, как давно я хотела поговорить с вами! Я так влюблена в вашу картину! После выставки я не спала целую ночь… Я боялась увидеть во сне, что я заблудилась в вашем ужасном городе… у меня вообще очень мрачный характер… Вы не верите? – воскликнула она, хотя он ничем не выразил своего недоверия. – Я так много пережила… Вы нарисуете мне что-нибудь в альбом? Я после моей смерти завещаю его музею Александра III – это будет очень ценный вклад – все имена. Ведь я живу только искусством. Моя личная жизнь разбита, новой я никогда не начну, вот почему я в искусстве люблю все отвлеченное, все, что не напоминает эту противную жизнь… Знаете, – таинственно зашептала она, наклоняясь к нему. – Я хотела записаться в клуб самоубийц.
– Да что вы?! – воскликнул Ремин, едва сдерживая улыбку.
– Да. Ведь я часто думаю, что современная жизнь слишком мелка. Ищешь чего-то грандиозного, возвышенного, захватывающего!
Говоря это, она наклонила свою хорошенькую голову набок, словно обиженная птичка и, вздохнув, продолжала:
– Когда вы меня узнаете ближе, вы увидите, что я совсем не то, чем кажусь: я…
Окончить она не успела, стремительно схваченная за плечи Тамарой.
– Додо! Мы ждем танго! – весело заявила Тамара.
– Милочка, я, право, не в настроении… – начала было Дора, но ее обступили, потащили.
Через минуту раздались капризные звуки модного танца, и Дора подала руку молодому человеку с желтым лицом и подстриженными усами.
* * *Ремин вышел вместе со всеми гостями.
Только русская певица и la belle Alice уехали – одна в автомобиле, другая в собственном купэ, да профессор по старости лет нанял фиакр – остальные гости все направились пешком до метро.
– Вы где стоите? – спросила Тамара, шагавшая рядом с Реминым.
– Quai du Célestin, – отвечал он.
– Я вас провожу, – мне по дороге, – я живу rue d'Aumbale, на Монмартре.
– Но ведь это страшная даль!
– Обожаю ходить пешком! Я летом всегда хожу по Швейцарии, так, куда глаза глядят. Самая удобная страна для пешего хождения: всегда найдешь и ночлег, и жратву… Видно, это у меня атавизм от предков-кочевников… Наш род, говорят, от каких-то киргиз произошел… я жалею, что религиозности нет у меня, а то бы вышла из меня странница! Ах, Ремин, если бы вы знали, до чего я эту Россию люблю! – воскликнула она во весь голос. – Люблю, а сама в этом Париже застряла.
– А почему?
– Свободнее, дорогой. Только, ради бога, не подумайте, что я политикой занимаюсь… Ни-ни! А так свободнее – у меня очень много родни и в Питере, и в Москве, так что я вроде как обеих столиц лишена. Ну а в провинции еще хуже… Там мне совсем ни вздохнуть ни охнуть… Хотите папиросу?
Она на ходу достала портсигар и стала закуривать.
Ветер задувал спичку, Тамара остановилась и, держа спичку в горстях, ожидала, пока французский серничек разгорится.
Ее лицо, освещенное этим светом, почему-то вдруг страшно понравилось Ремину, оно напомнило ему Россию, деревню – там много таких скуластых, веселых баб с крепкими, красными щеками и широкими носами.
Эти бабы всегда зубоскалки и ругательницы, работящие, хозяйственные, держат семью в строгости и бьют мужей. Эти бабы могут выпить и любят выпить, но выпьют вовремя и с толком – не зря…
Тамара закурила и опять двинулась вперед.
Улица была пустынна.
– Черт знает, как эти французы любят ложиться с курами. Еще без четверти час, а они десятый сон видят, – ворчливо заговорила Тамара. – Я нарочно живу около place Piguale, там у нас хоть какая-нибудь ночная жизнь! А в этих добродетельных кварталах со скуки сдохнешь! Вы здешний житель?
– Стал здешним.
– По своей воле?
– По своей, – улыбнулся Ремин.
– Удивляюсь! Я бы по своей воле ни за что из России не уехала. Если бы завтра вся моя родня там перемерла… Впрочем, нет, есть и еще причина… Знаете, Ремин, в России женщины глупы еще…
– Чем же?
– Все еще на вас, мужчин, как на хозяев смотрят.
– А здесь?
– Здесь? – Она вдруг свистнула и рассмеялась.
Они прошли молча довольно большое расстояние.
– А славная бабенка эта Дорочка! Небось сердце-то потеряли, земляк?
– Потерял, Тамара Ивановна, – весело сказал Ремин.
– Ну еще бы! Только глупа она, сердечная, и добродетельна, как святая!
– Ну и слава богу.
– То есть как это слава богу? – словно обиделась Тамара. – Добродетель – это тупость в своем роде.
– Может быть! Но добродетельным людям живется спокойнее, очень уж хлопотно порочным быть, – шутливо заметил Ремин.
– И вы, кажется, добродетель проповедуете по примеру ученого Леньки? – ворчливо спросила она.
– Это вы про кого? – удивился Ремин.
– Про кого… Конечно, про «нашу знаменитость» – про Леньку Чагина. Тоже ведь добродетель проповедует! Подумаешь! Вы его когда-нибудь послушайте… Раз разговор зашел… Спорили, высказывались – правда, было много выпито… Он сидит, щурится и молчит… потом встал и прощается… Мы к нему… Ваше мнение, мол… А он усмехнулся и изрек: «Все, что вы говорили здесь, для меня китайская грамота, вопросы пола для меня совершенно неинтересны». И врет! Наверное врет! Глаза у него развратные. Совершенно неприличные глаза. Теперь, когда люди стали откровеннее, перестали лицемерить и прятать то, что прежде считалось пороками, – он о добродетели заговорил, чтобы вот наперекор, вот чтобы не так, как все, вот чтобы…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Современник. 1912. № 1. С. 371–372.
2
А дальше – толпа (фр.). – Прим. ред.
3
Это такая же работа, как и другие. Нет никакой разницы. У меня родители в провинции (фр.). – Прим. ред.