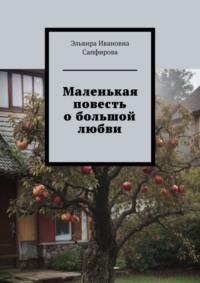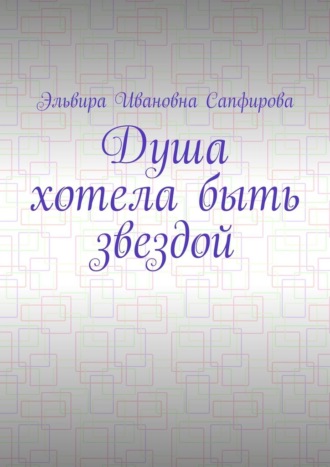
Полная версия
Душа хотела быть звездой
– А вы читали статью Гейне «Романтическая школа»? – сияя, как алтын, обратился Пётр к молчавшему Тютчеву, продолжая разговор.
Тот остановился, вытер пот с бледного широкого лба, виновато улыбнулся, кивнул. Румянец, что всегда украшал его гладкие щёки, исчез.
– Это лишний раз доказывает вашу ошибку, господа, – слабым голосом ответил Тютчев и остановился перевести дух, – нельзя творить национальную литературу, утопая в мелочах быта.
Братья не поняли, при чём здесь мелочи быта, но выяснять не стали: шум воды отвлёк внимание и заставил ускорить шаг. Вышли на площадь, которую украшал городской фонтан. Прохлада!
Мюнхенские площади – и не площади вовсе, а так, площадки: небольшой кружок, от которого в разные стороны уходят улочки, узкие, кривые. Увидев скамейку около лавки, Пётр предложил сесть, устроился так, чтобы наблюдать за проходившими мимо горожанами.
Люди прохаживались, торопились, останавливались, разговаривали. Но вот странно: кругом чистота. Ни соринки, ни бумажки. И люди чистые, аккуратные, весёлые. Под каждым окошком растут цветы в подвешенных горшках, мощёные улицы такие, что кажется, их мыли с мылом. Чудеса! Иван не мог скрыть своего восхищения. В рай попал! Внутри всё пело и, не дождавшись ответа от почему-то притихшего друга, с воодушевлением продолжил, провожая взглядом хорошенькую служанку с корзиной:
– Как он там о Шеллинге зло пишет! Я при нём-то не стал говорить, но ведь это надо же так написать, что в области философии природы Шеллинг должен пышно расцвести и воссиять.
– А как над Гофманом поиздевался, а! – улыбаясь, поддержал разговор Иван Васильевич, вальяжно раскинув руки на спинке скамейки. – Назвал его поэзию болезнью, поэтому обсуждать его произведения – дело не критика, а врача.
Злое, конечно, и не совсем справедливое, вернее, даже возмутительное утверждение поэта Генриха Гейне о творчестве собрата по перу расплылось в сознании, подобно стаявшему льду на солнце, и испарилось, не оставив никаких сожалений по этому поводу у братьев.
– Свои – сами разберутся! – лениво протянул Пётр.
Иван был чрезвычайно доволен прошедшим днём и собой. Его взгляд скользил по плескавшимся возле фонтана детям, по аккуратно подстриженным диковинным деревьям, по необычным вывескам над лавками, по великолепным фасадам зданий.
За несколько часов разговора с немецким философом все устали, но то внутреннее восхищение, та гордость за себя, общавшегося на равных с великим учёным мира, переполняла. Пётр засмеялся:
– А учеников Шеллинга он вообще назвал выпущенными на свободу школьниками.
Иван Васильевич перестал улыбаться, всплеснул руками и, протяжно промычав, резко опустил их на свои колени и пробасил:
– А вот это непорядочно. То восхвалял Шеллинга, а когда ни брауншвейгского ордена, ни звания профессора не получил, все немцы плохи стали, французы теперь роднее. Сбежал во Францию? Так, что ли? Молчишь, Фёдор Иванович, а?
Иван повернулся к Тютчеву, сидевшему между братьями, и вскочил испуганно. Друг полулежал на скамейке, голова безвольно свесилась на грудь. Всегда розовощёкий, сейчас он был белым, как накрахмаленная в рюшках рубашка.
– Перегрелся, что ли? – растерянно спросил Пётр брата, невольно отстраняясь от неподвижного тела.
– Не говори много, намочи вот платок, да побыстрее, потом выясним. Человека надо в чувство привести.
Он поднял голову Фёдора Ивановича, положил на спинку, легонько похлопал по пухлым бледным щекам, подул в лицо и положил подоспевший мокрый батистовый платок на широкий лоб друга.
Тютчев открыл глаза и попытался виновато улыбнуться.
– Нет-нет, ничего не говори! Сейчас же домой, сейчас же, – скомандовал Иван.
Братья подхватили под руки обмякшего и довольно-таки тяжёлого дипломата. Голову держать прямо сил ещё хватало, а вот ногами перебирать, даже не касаясь земли, сил не было.
Когда его уложили на кровать, напоили водой, и румянец понемногу оживил щёки, приступили к расспросам, что же случилось и не нужно ли вызвать врача.
Тютчев слабо махнул рукой:
– Экие вы! Ничего опасного. Нелли, жена, с детьми уехала на неделю к сестре. Три дня назад меня пригласил на обед русский посланник. Я думал, что идти нужно к шести часам, и явился в ту самую минуту, когда гости вставали из-за стола. Поэтому не обедал. На другой день обед заказать было некому, так как жена уехала. Я обошёлся без обеда.
– Ну, а на третий день, сегодня? – пряча улыбку, строго спросил Иван.
– А на третий день я потерял привычку обедать.
Дружбы не получилось

Жизнь за границей многому его научила. Друзей было много, а вот стихов о дружбе не было. Ни одного.
Летом 1833 года в Мюнхен на должность атташе прибыл в русское посольство молодой князь Иван Гагарин, дальний-дальний родственник Тютчева. Они сразу подружились. Что их сближало? Родина, Московский университет, общество любомудров, разговоры и думы о будущем России.
Был вечер. Друзья сидели «на брёвнах, у самой воды; напротив… на другом берегу, над скоплением остроконечных крыш и готических домишек, прилепившихся к набережной, высился базельский собор, – и всё было прикрыто пеленою листвы… Это тоже было очень красиво, а особенно Рейн, который струился… и плескал волной в темноте».
– Знаешь, с тех пор, как я приехал в Мюнхен, – делился князь Иван Гагарин с другом, – я наблюдаю за жизнью здешнего общества. При всём их различии у них есть общность, словом, европейская нация. В чём-то они похожи друг на друга, как и их страны. То, что их разделяет, так призрачно и незначительно. Вот этой общей черты не нахожу у нас, в России. Только вижу, что Россия в сравнении с этими европейскими странами отделена гораздо более глубокой разграничительной линией, чем та, которую можно заметить между Германией и Италией, Англией и Францией. Будто между ними, европейцами, ручейки протекают, а между нами – Волга в половодье, берегов не видать. В чём состоит та общность между европейскими нациями? Почему они чужды России?
В ответ тишина. Взгляд Фёдора Ивановича устремлён вдаль на закат, на воду. Думает. Не всё и не всегда можно объяснить словами. Иван многого не знал и к тому же был на одиннадцать лет моложе, но чувство любви к Родине не зависит от возраста. А князь Иван Гагарин, оказавшись в Мюнхене, постоянно «сравнивал Россию с Европой», видел лишь золотую обёртку жизни европейцев, которая манила, восхищала. Иван не видел сути этих наций, главного, что так неотвратимо открывалось вдумчивому, мыслящему Фёдору Ивановичу. Он молчал, потому что не знал, как можно научить уважать своё Отечество, а не превозносить чужое. Зачерпнул горсть камешков, с силой бросил в волну.
– Понимаешь, – не дождавшись ответа, продолжил Гагарин, – я не перестаю искать решение этого вопроса с тех пор, как приехал в Мюнхен. Посмотри, какая аккуратность и точность во всём: что дороги с дорожками отшлифованы, только что не вымыты полотёром, что в казённых местах порядок. Если сказано сделать работу за два дня, то непременно через это время и спросят с тебя.
Тютчев рывком встал с бревна. Долго отряхивал брюки, чувствуя настойчивый, выжидательно-наблюдательный взгляд друга. Наконец ответил:
– Иван, а тебе не кажется, что эти два качества, доведённые до совершенства, лишают людей души? И ещё ты видишь лишь внешнее проявление превосходства, – неторопливо возразил Фёдор Иванович. – Конечно, великолепно шагать по гладкой каменной дорожке в туфлях, а не вытаскивать из чавкающей грязи сапоги. Но заметь, пока ты доберёшься до места, весь вымазанный и забрызганный, узнаешь все новости дня и заодно повидаешь всех родственников и знакомых.
– Это смешно, но очень грустно, – улыбнулся, вздохнув, Иван.
– А меня это приводит в бешенство! – воскликнул Тютчев. – Понимаешь, в бешенство! Россия сейчас очень даже может себе позволить не только дорожки, но и железные дороги! Казна полна, а барон Клеймихель только и раскошелился, что на одну железнодорожную ветку от Петербурга до Москвы. Вся Европа понимает преимущество цивилизованного передвижения, а наши правители будто нарочно сдерживают дорожное развитие. Почему?
Иван удивлённо посмотрел на друга, не понимая связи бездорожья с действиями иностранцев.
– Друг мой, так можно во всей грязи и нищете обвинить иностранцев? Не сдерживали они никогда Россию, а наоборот, цивилизацию несли и несут! – недоумённо развёл руками Иван, не ожидавший такого поворота.
Он был твёрдо убеждён, что все достижения в науке – изобретение европейцев, которые учат русских основам цивилизации. В негодовании решительно встал, отряхнулся и, не допуская иных возражений, привёл, на его взгляд, неоспоримый аргумент:
– Ты больше десяти лет живёшь за границей в чистоте и порядке, и, поди, забыл, какова она, жизнь в Российской глубинке.
И вообще, он лучше знает, как обстоят дела на самом деле. Он начальник. Вот стихи у Фёдора Ивановича хороши, даже очень, а политик он никакой! Иван снисходительно улыбнулся. Каждый раз, когда речь заходила об иностранцах, об их роли в развитии России, о будущем Родины, оба становились чужими, непримиримыми, и каждый оставался при своём мнении. И не затрагивать этой темы им было невозможно: каждый искал своё место в жизни.
Фёдор Иванович умел их споры вовремя останавливать, и князь был частым гостем в доме Тютчева.
В уютную, небогато обставленную комнату ворвался тёплый ветер, и ветки сирени, стоявшие в фарфоровой белой вазе, будто ожили. Слабый, еле уловимый аромат нежности дохнул на Тютчева и увлёк туда, на родину, где под окном цвёл до самых заморозков чудоцвет или ночная красавица. Всё лето аромат цветов не давал уснуть, пеленою висел над домом, над садом, над лесом. А рано-рано утром высоко в небе над полем, которое засевали крестьяне, утопая в рыхлой земле, звенел на все лады жаворонок. Разве это можно почувствовать в ограниченной точностью и аккуратностью Европе?!
– Может, чаю? – дипломатично предложил Фёдор Иванович другу. Встал, позвал Нелли и подошёл к окну. Ему не хотелось продолжать разговор. Иван молод, падок на внешний блеск и не видит всей глубины проблемы, но он добр и умён. А здесь, в Мюнхене, не так много русских, с которыми можно расслабиться в беседе.
Жена молча принесла чайник, поставила на стол и, приветливо улыбнувшись гостю, наполнила пустые чашки.
Иван кивнул, но желание продолжить дискуссию, видимо, разгорелось ещё сильнее: тема задела за живое, и он пытался доказать преимущество Запада не столько другу, сколько себе.
– Нет, у России нет иного будущего, как подчиниться полностью Западу и постепенно достичь того уровня развития, который имеют европейские страны. Как им это удалось? Много причин. И в частности, надо перейти всем русским в католическое вероисповедание.
Тютчева неприятно поразило это утверждение. Знает ли Гагарин историю России, её традиции, народ?! Под пристальным взглядом друга Фёдор Иванович, не торопясь, поднял фарфоровую чашечку с ароматным индийским чаем. Страшно дорогой! Но какой же вкусный! Сделал несколько глотков, явно наслаждаясь. На лице появилась мягкая, добродушная улыбка.
– В одной из статей А. С. Пушкина я прочёл, что у греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Очень верно сказано. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма, – возразил Тютчев.
– В Западной Европе общий уровень развития жизни значительно выше, чем в России! И в этом всё дело. Неужели ты не видишь: единственное спасение для России в том, чтобы заменить всё «русское» европейским, начиная с церкви и религии!
– Это распространённая ошибка высшего общества. Там сплошь и рядом подменяется понятие «цивилизация» понятием «Европа». Я глубоко убеждён «в высшем мировом призвании русского народа».
– Ты «усваиваешь европейское просвещение», поэтому тебе трудно понять широкое призвание России, и наоборот, «углубляясь в русское, в духовные стихии», невозможно разглядеть всемирность европейской мысли. И в результате приходится отвергнуть либо Европу, либо Россию.
– Нет, это не так, – возразил Тютчев. – Чтобы увидеть «мировое призвание русского народа», не надо отрицать Запад. Ведь Шеллинг, Гёте, Гегель, утверждая западные ценности, не отрицали России, а предрекали ей великую самобытную будущность. «Европейский Запад – только половина великого органического целого, и претерпеваемые Западом трудности обретут разрешение, только в другой половине».
Через два года Иван Гагарин уедет домой, и вслед будут лететь удивительные письма. В одном из них тоскующий Тютчев восклицал: «Взгляните, вот подле меня свободный стул, вот сигареты, вот чай… Приходите, садитесь, и станем беседовать; да, станем беседовать, как бывало, и как я больше не беседую…» А письма… Разве в них передашь все чувства, все мысли?! Остались одни воспоминания, переживания и осознание недостаточности, бесполезности, нелепости писем.
Взгляды были разными, но, благодаря этой дружбе, литературная Россия познакомилась с великолепной поэзией Тютчева. Именно Иван Гагарин привёз с собой в Россию стихи друга и с изумлением понял, что ни Жуковский, ни Пушкин не знают такого поэта – Тютчева, не знают его стихов. Часть рукописей друга князь нашёл в пылящихся папках у Раича, ещё с десяток новых виршей заставил Тютчева настоятельными просьбами передать через Амалию Крюднер. Хотел издать их книгой, но успел лишь передать этот клад А. С. Пушкину для печати в «Современнике». Более сорока лет князь бережно хранил бесценные листки со стихами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.