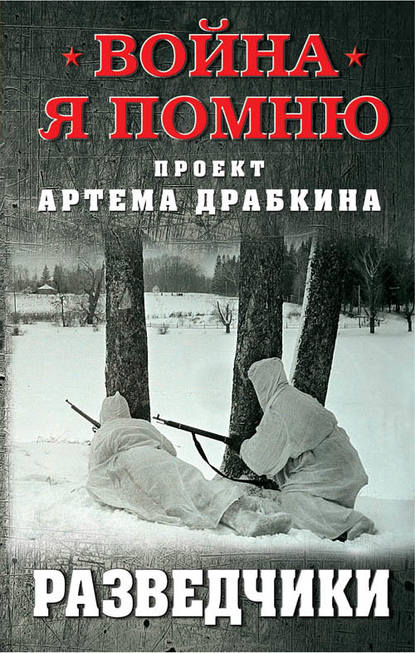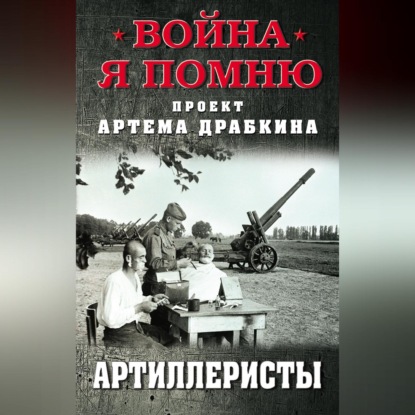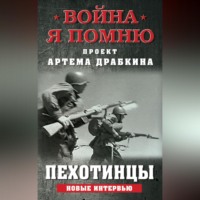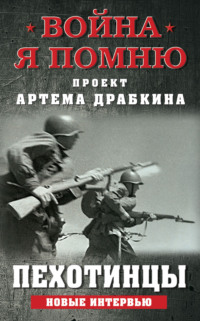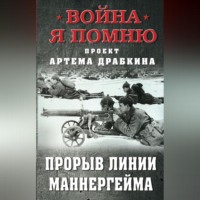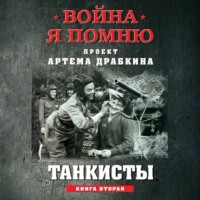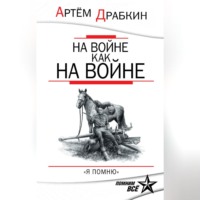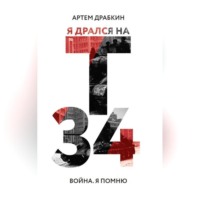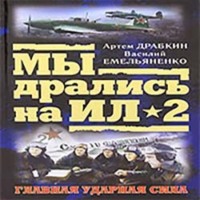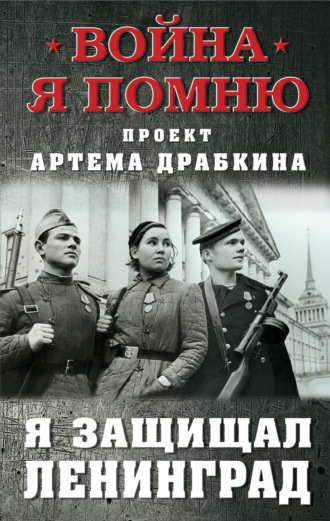
Полная версия
Я защищал Ленинград
К своим вышли из окружения к 29 июня 9462 человека, в том числе 5494 человека раненых и больных. К 10 июля вышли еще 146 человек. Выход просачивавшихся по лесам и болотам солдат и командиров 2-й ударной армии продолжался довольно долго, многие отходили не на запад, а на юг, в направлении Старой Руссы. Но принципиальных изменений цифры вышедших из окружения уже не претерпели. По немецким данным, в ходе боев с окруженной 2-й ударной армией было захвачено 32 759 пленных, 649 орудий, 171 танк и другое оружие, боевая и вспомогательная техника.
После катастрофы 2-й ударной последовала Синявинская операция, в которой предполагалось пробить коридор к Ленинграду между Мгой и Синявино, почти по кратчайшему расстоянию, намного ближе к Ладожскому озеру, чем прорыв 2-й ударной армии. Однако вновь последовали фланговые удары противника, которые привели к окружению ударной группировки 8-й армии. Наконец в «Искре» было решено пробивать коридор без попыток окружить хотя бы полк противника в «бутылочном горле», прямо по берегу Ладожского озера, без риска получить удар во фланг. Войска Ленинградского и Волховского фронтов здесь разделяли всего 12–15 км. Зимой 1943 г. задача ударной группировки Волховского фронта состояла в том, чтобы прорвать оборону немцев на участке Липка, Гайтолово, уничтожить оборонявшиеся здесь войска противника, овладеть Рабочими поселками № 1, № 5 и Синявино и, соединившись с войсками Ленинградского фронта, повернуть фронт наступления на юг и выдвинуться на линию р. Мойка, пос. Михайловский, Тортолово.
Не следует думать, что план «Искры» был правильным, а предыдущие планы снятия блокады – ошибочными. Каждый из них в принципе соответствовал обстановке. Зимой 1942 г. было целесообразно нащупать слабое место в построении войск противника на Волхове и прорываться по длинному маршруту. Зимой 1943 г. Красная Армия ощущала себя уже достаточно сильной и подготовленной, чтобы осуществить штурм крепости XX столетия, занимавшей все пространство «бутылочного горла». Предпосылки для снятия блокады Ленинграда также создались в связи с общим успешным для Красной Армии ходом наступательных операций в конце 1942 г. Катастрофическое развитие ситуации для немцев в южном секторе фронта в связи с окружением армии Паулюса под Сталинградом и серьезный кризис на московском направлении привели к тому, что были выкачаны последние резервы из группы армий «Север».
В ноябре 1942 г. советское командование задумало новую операцию с тем, чтобы «соединить Большую землю и осажденный Ленинград прочным коридором». Его предполагалось пробивать по кратчайшему расстоянию через так называемое «бутылочное горло», примыкавшее к Ладожскому озеру. Внешнее и внутреннее кольца блокады Ленинграда здесь разделяли всего 12–15 км. Однако все пространство здесь было заполнено узлами сопротивления и многочисленными опорными пунктами немцев, связанными между собой.
Операция получила кодовое наименование «Искра». В отличие от предыдущих попыток прорыва блокады имела место постановка практически равных по глубине задач деблокирующей группировке Волховского фронта и войскам деблокируемого Ленинградского фронта (ввиду улучшения ситуации со снабжением города). Ударная группировка Ленинградского фронта имела задачей форсировать Неву, прорвать оборону противника на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург, уничтожить оборонявшегося здесь противника и соединиться с войсками Волховского фронта. Такой план давал надежду прорвать блокаду до подтягивания немцами резервов в «бутылочное горло».
В ночь на 12 января группа авиации Балтийского флота нанесла удар по железнодорожным узлам в тылу противника, воспрещая подвоз резервов. В 9.30 утра 12 января 1943 г. на участках наступления фронтов началась артиллерийская подготовка атаки. За 40 минут до начала атаки пехоты и танков штурмовая авиация фронтов группами по 6–8 самолетов атаковала узлы связи, опорные пункты, артиллерийские и минометные батареи противника в «бутылочном горле».
Войска первого эшелона 67-й армии Ленинградского фронта, форсировав Неву по льду, сломили сопротивление противника между 2-м городком и Шлиссельбургом, и к концу дня наступавшие в центре 268-я и 136-я сд продвинулись на глубину до 3 км. Наступавшая с плацдарма в районе Московская Дубровка («Невский пятачок») 45-я гв. сд выбила противника из первой траншеи, но дальше продвинуться не смогла. Неуспешной также была попытка 86-й сд форсировать Неву против Шлиссельбурга. Во второй половине дня дивизия была перенацелена вслед успешно наступавшим соединениям, переправилась через Неву в районе Марьино и атаковала Шлиссельбург уже по восточному берегу Невы.
Войска 2-й ударной армии Волховского фронта 12 января перешли в наступление на всем фронте от Липки до Гайтолово. Особенно упорные бои происходили в районах трех наиболее сильных опорных пунктов противника – на правом фланге против Липки, в центре за Рабочий поселок № 8 и на левом фланге за рощу «Круглая». К исходу дня войска армии продвинулись на 2–3 км. Рабочий поселок № 8 был своего рода «фортом в болотах» – его гарнизон составляли около 700 человек, опиравшихся на 16 дзотов. Не теряя времени на штурм, его блокировали силами 372, 18 и 256-й сд.
13—14 января были введены вторые эшелоны армий, однако решительного результата добиться не удалось. К исходу 14 января между войсками Ленинградского и Волховского фронтов, вышедшими к Рабочему поселку № 5, оставалось расстояние не более двух километров. Поселок № 5 являлся сильным опорным пунктом с 15 дзотами. Через него проходила дорога, связывавшая Синявино и берег Ладожского озера. В течение 15, 16 и 17 января войска 67-й и 2-й ударной армий продолжали наступление на более узком фронте, стремились завершить прорыв и соединиться в районе Рабочих поселков № 1 и № 5. Войска 2-й ударной армии в течение 15–17 января закончили уничтожение противника в Рабочих поселках № 4 и № 8, овладели сильным опорным пунктом Липка, вышли к Рабочему поселку № 1. В то же время правофланговые соединения 67-й армии (45-я гв. сд, 13-я, 123-я сд и 102-я сбр) были сосредоточены против 1-го и 2-го городков, а 11, 71, 376 и 314-я сд 2-й ударной армии вели бои против сильного узла сопротивления противника юго-западнее Гонтовой Липки. Так две армии пытались расширить фронт прорыва к югу.
Решающие события развернулись с утра 18 января: в 9.30 на восточной окраине Рабочего поселка № 1 соединились войска двух фронтов. Вскоре пал немецкий опорный пункт в Рабочем поселке № 5. Изолированная у берега Ладожского озера группировка противника (так называемая группа Хюнера) была частично уничтожена и пленена, частично прорвалась на соединение с главными силами 18-й армии. Блокада была прорвана.
К 6 февраля 1943 г. была построена железнодорожная Шлиссельбургская трасса, проходившая всего в 5 км от линии фронта. Чтобы избежать потерь, поезда по ней проходили преимущественно в ночное время. Всего за 1943 г. по железной дороге было доставлено в город 4,4 млн тонн грузов, что почти в три раза превышало объем перевозок по зимним и летним дорогам ладожской «Дороги жизни». Однако последующие попытки оттеснить немцев от пробитого коридора успеха не имели.
В сражениях 1943 г. немецкие позиции под Мгой показали свою устойчивость. Видя бесплодность попыток взломать немецкую оборону, советское командование решило полностью сменить стратегию. В качестве стартовых позиций новой наступательной операции после долгих раздумий выбрали клочок суши под Ораниенбаумом. Этот плацдарм на берегу Финского залива сохранили в сентябре 1941 г., и он с тех пор оставался второстепенным участком фронта. Такой выбор таил в себе немалый риск. Нужно было не только снабжать наступающих через Финский залив под прицелом немецких орудий, но и прорывать оборону на ранее не изученном направлении.
По новому плану с плацдарма наносился удар во фланг и тыл осаждавших Ленинград немецких войск. Накопление войск на плацдарме началось еще поздней осенью 1943 г. Несмотря на принятые меры секретности, данные о сосредоточении войск на Ораниенбаумском плацдарме все же просачивались к немцам. Однако Кюхлер пришел к выводу, что Ленинградский фронт может рассчитывать только на пополнение из числа жителей осажденного города. К тому же Линдеман, командующий 18-й армией, уверял, что его войска отразят все атаки. Операция началась 14 января 1944 г. В первые дни наступления о нем не сообщалось ни в газетах, ни по радио. Но слышавшие канонаду ленинградцы понимали, что часы отсчитывают последние дни блокады. В том, что наступление будет успешным, никто уже не сомневался.
Неожиданно мощный удар с Ораниенбаумского плацдарма привел к быстрому развалу немецкой обороны. Кюхлер запросил у Гитлера разрешение на отвод войск из района Мги с целью высвободить дивизии для отражения советского наступления. Однако фюрер не дал определенного ответа. Это имело для немцев роковые последствия. Через неделю после начала операции наступающие соединились в районе Ропши. Трофеями советских войск стали 265 орудий, обстреливавших Ленинград, в том числе 85 тяжелых.
Отступление немецких войск стало все больше походить на неорганизованное бегство. Фронт все дальше откатывался от Ленинграда. Канонада становилась все тише, а через несколько дней наступила долгожданная тишина. Сражение за Ленинград завершилось победой советских войск.
А. Исаев
Фрайман Афроим Аронович
Вечером 21 июня наш командир, старший лейтенант Ушаков, был назначен дежурным по лагерным сборам. Мы попросили его дать нам возможность сходить в кино, и Ушаков сказал: «Даю вам слово, что сегодня по тревоге поднимать не стану». Но ночью ему пришлось свое слово нарушить, нас подняли по тревоге, меня еще с двумя бойцами послали на усиление караула при гауптвахте сборов. В 11.00 утра мы пошли с котелками на кухню за обедом, а нам красноармейцы говорят: «Вы что так шляетесь? Вы что, еще не слышали? Война началась!» Вскоре, уже в июле, нас перебросили под Ленинград.
Шли своим ходом, как тогда говорили: «Пять дней пехом, один день мехом», пока по дороге нас не подобрала автоколонна, и на машинах мы прибыли в Красногвардейск (Гатчину).
Местные жители кидали нам в машины коробки с папиросами «Звездочка», в каждой по 25 пачек папирос, тогда я впервые закурил. Рядом с нами расположились курсанты Ленинградского пехотного училища имени Кирова, и через какое-то время нас построили и объявили приказ. Сказали, что немцы рядом с городом высадили десант, численностью примерно до роты, и вместе с курсантами мы должны атаковать и уничтожить немецких десантников. Это было моим первым боевым крещением. Мы пошли в атаку, было страшно в первый раз бежать навстречу смерти, в первый раз стрелять по живым людям во вражеской форме. Но бой сложился для нас удачно, немецкий десант был истреблен полностью. Здесь же, в лесу, из нашей «дивизионной школы» отобрали 20 человек, в том числе и меня, и отправили в Ленинград, где в течение четырех дней мы проходили интенсивную подготовку по программе: «Действия командиров стрелковых взводов в наступлении и в обороне», потом нас отправили в Пушкино, который беспрерывно бомбили, дальше нашу команду гоняли то на станцию Левашово, то в Стрельну, пока в августе нас не вернули в Питер, где на проспекте Карла Маркса № 65 находился запасной полк. Здесь мы получили звания младших лейтенантов и нас распределили по частям.
Я попал в 281-ю сд, в 1062-й стрелковый полк, в 1-й стрелковый батальон на должность командира взвода. Принял под командование взвод из 29 младших командиров и красноармейцев. Полк тогда стоял под Колпино, затем нас перебросили в Парголово, потом еще куда-то, сейчас мне уже трудно вспомнить детально все наши перемещения. В начале ноября дивизия из «блокадного мешка» была переброшена самолетами по воздуху и по воде через Ладогу на Волховский фронт, где наш 1062-й сп и соседний 1064-й сп ждала бесславная гибель и плен через какие-то считаные недели после переброски на новый фронт.
Нашу дивизию перебрасывали с места на место. Сначала были бои в районе Тешково и Левашово, потом опять Колпино, затем мы стояли на плацдарме под Ораниенбаумом, то нас готовили к высадке на «Невский пятачок». Все в памяти перемешалось в бесконечные переброски и неудачные бои. В октябре начался голод на передовой, мы получали всего по 400–500 грамм хлеба на сутки, и от голодухи некоторые уже с трудом передвигали ноги. Один раз, когда кончились патроны, мы поднялись в штыковую атаку навстречу немцам, но немцы не приняли штыкового боя и отошли назад. Это, наверное, после уничтожения немецкого десанта в июле сорок первого года, второе светлое воспоминание о боях на Ленфронте, а все остальное, что происходило с нами в те дни… довольно грустная история…
Мы все время отступали или неудачно ходили в атаки, среди бойцов ходили слухи, что немцы так близко подошли к городу только из-за предательства начальника штаба ЛВО, который якобы перелетел к немцам со всеми картами и дислокацией укрепрайонов…
В начале ноября поступил очередной приказ на передислокацию. Я был командиром 1-го взвода в 1-й роте, и мой взвод шел впереди батальонной колонны. Прошли километров пятнадцать, выбились из сил, и тут появился на коне наш командир батальона капитан Подопригора и стал орать на нас: «Давай! Быстрее! Вашу мать-перемать! Что плететесь, как дохлые клячи?! Вас машины ждать не будут!» И тут мой ротный, местный, бывший оружейный мастер из Питера, вдруг заметил: «Куда мы идем? Это же окраина Ленинграда!»
Прошли еще вперед и оказались на летном поле, где нас ждали транспортные самолеты, вроде похожие на «Дугласы». Каждому взводу приказали садиться на «свой», указанный начальством, самолет. Мы залезли в «транспортник», а там пол устлан красной ковровой дорожкой.
Вышел летчик и сказал мне: «Прикажи своим бойцам, чтобы приготовили котелки». Бойцы обрадовались, подумали, что нас сейчас будут кормить горячим, а летчик всего лишь имел в виду, что если кого начнет рвать, «выворачивать» в воздухе, так чтоб рвали в котелки, а не на пол. Где-то 5 ноября мы уже вступили в бой на Волховском фронте, где дивизия собиралась по частям, по мере переброски из кольца блокады. Это происходило в районе железной дороги Кириши – Мга и Погостья.
Сначала все было совсем неплохо. Мы атаковали деревню Плюсы, захватили ее, вышли близко к участку железной дороги и заняли станцию. Мне объявили, что я представлен за эти бои к ордену Красной Звезды. Потом нам приказали оставить станцию и отходить через лес.
Мой взвод отходил последним. Один из моих бойцов, уже немолодой, выбился из сил, сел на снег и сказал: «Не могу больше идти». По уставу я должен был застрелить его на месте, но я не стал этого делать. Молча развернулся и пошел вслед за своими красноармейцами.
Полк занял новые позиции, но через несколько дней мы оказались в «мешке», нас почти полностью окружили, для прохода в свой тыл оставалась только одна лесная дорога.
У нас подходили к концу боеприпасы, закончилось продовольствие, мы несколько дней фактически ничего не ели, и один раз нам с самолетов По-2 стали сбрасывать мешки с черными сухарями, но когда стали делить сухари среди бойцов, то каждому досталось от силы по два сухаря. Многие красноармейцы от голода и безысходности уже были близки к деморализации. Моя рота стояла на стыке 1062-го и 1064-го полков, и за два дня до того, как все для нас закончилось, нам придали для атаки два танка: КВ и Т-34, но ничего из этой атаки не вышло.
Четырнадцатого числа ко мне в землянку пришел лейтенант-танкист, сказал, что в поле за нами видел двух жеребят, и мы с ним пошли и пристрелили их, чтобы кониной накормить бойцов.
Мне было жалко стрелять в животных, поверьте, что человека в немецкой форме было убивать легче, чем этих несчастных жеребят.
Бойцы хоть успели в последний раз поесть, перед тем как нас всех взяли в плен.
Вдруг исчез весь комсостав, от командиров рот и выше: они бросили своих солдат в окружении. Куда-то «испарился» и мой ротный Мельников. Только взводные лейтенанты остались на позициях, а штабы полков, включая штаб нашего 1062-го сп под командованием майора Зорина, еще до этого находились вне кольца окружения… Мы понимали, что приближается трагическая развязка. У нас на винтовку оставалось по пять патронов и одна неполная лента на пулемет Максима, который был у меня во взводе. Приказ на отход или на прорыв нам никто не отдавал, и никто не предпринимал попыток прорваться к нам на помощь.
Просто некому было приказывать, командиры нас бросили!.. Нас «сдали», предали…
Ночью ко мне снова пришел лейтенант-танкист и сказал: «Послушай меня, взводный. Садись на один из моих танков, мы уходим отсюда. Завтра нам всем здесь будет крышка», и когда я ответил ему, что не могу бросить своих бойцов, что совесть пока не потерял, то танкист произнес: «Ты еще пожалеешь об этом. Завтра немцы будут здесь»… Танки в темноте ушли через лес на восток, а утром пятнадцатого числа на нас пошли немцы. Их было много, гораздо больше, чем было нас. Шли они медленно, а когда огонь с нашей стороны ослаб, то немцы поднялись в полный рост, а с трех сторон по нам непрерывно били из всех стволов. Немцы, скорее всего, знали от перебежчиков, что у нас боеприпасы на исходе. Я со связным и с помкомвзвода старшим сержантом Гайдуковым находился в копне сена, мы отстреливались, пока еще были патроны, а потом заклинило пулемет, а Гайдукова ранило пулей в плечо. Рядом была деревенская банька, я успел крикнуть Гайдукову, чтобы он уходил, спрятался в ней, а потом опять посмотрел на поле боя, и мне стало страшно, такое ощущение, что волосы дыбом встали… Вся наша линия обороны замолчала, патроны у всех закончились, а немцы стояли в полусотне метров от наших окопах и кричали, что-то вроде «Русские! Сдавайтесь!». Никто не бросался на немцев в штыки…
Стало тихо, стрельба прекратилась… И тогда бойцы стали вылезать из траншей и стояли толпой, в большинстве своем не поднимая руки вверх. Остатки двух полков, свыше 800 человек, попали в плен в это проклятое утро…
Интервью и лит. обработка Г. Койфмана
Биниманский Вадим Германович
Ночью 22 июня боевая тревога. Мы все с неохотой встаём, идём на боевые посты. Потом узнаём, что это была не учебно-боевая тревога, а фактическая тревога, и наши зенитчики уже стреляли не по мишеням, а по фашистским самолётам. В тот день «Марат» стоял у стенки. Потом он ходил на малый рейд, на большой рейд. Это в зависимости от ситуации на флоте. Вначале мы в основном защищали от налётов с воздуха. Потом «Марат» находился около завода «Судо-мех». Если по каналу пройдёте, это средний завод. Там в начале сентября мы встретили немцев, которые уже подошли близко к Ленинграду. Наша артиллерия, и главный калибр, и бортовая артиллерия, чуть ли не прямой наводкой отбивала немцев. Потом мы вернулись опять в Кронштадт. На словах всё это просто. Так, вроде бы. Но морской канал узкий. Глубина небольшая, и когда в мирное время линкор входил туда, то это было целое событие. Сразу несколько буксиров, обеспечение. А здесь командир сам пришел. Мы простояли там двое суток. Потом стало видно, что надо уходить, потому что если бы нас там разбомбили, то мы бы перегородили канал, и никто больше не прошел бы в Ленинград. К тому времени уже были попадания. Первые ещё на малом рейде попали под небольшие бомбы. Но с этим мы справлялись сами. Вернувшись в Кронштадт, мы встали у стенки и продолжали вести огонь по наступавшим фашистам. На Ломоносовском (Ораниенбаумском) направлении немцев остановили как раз по линии дальности действия нашего главного калибра. Мы вели себя очень активно. Поддерживали сухопутные войска огнём главного калибра, бортовой артиллерии и зенитной.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. М., 1973. С.163–164.
2
Новиков А.А. В небе Ленинграда (Записки командующего авиацией). М.: Наука, 1970. С.121.