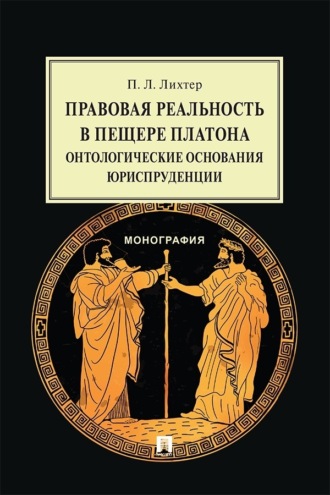
Полная версия
Правовая реальность в пещере Платона. Онтологические основания юриспруденции. Монография
2. Системный подход делает акцент на структурно-функциональных показателях правовой реальности, то есть рассматривает ее как систему жизнедеятельности общества и его субъектов, основанную на праве и юридических законах. Правовая реальность, как и любая сложная система, является целостностью, состоящей из элементов. И, конечно, свойства целостности никак не сводимы ни к свойствам отдельных элементов, ни к их сложению.
3.В советской юридической литературе был представлен элементный подход, согласно которому «правовая реальность рассматривается как надстроечное явление, включающее правовые учреждения, правовые отношения и правосознание». Этот подход вообще лишает право и правовую реальность глубины и содержания, ведет к упрощению данного феномена[23].
Есть мнение, что право – это совокупность юридических текстов: от правовых пословиц (низкая форма юридической картины мира) до разнообразных доктрин (высокая форма)[24]. Однако гарвардский философ и логик Д. Дэвидсон настаивает, что язык вообще не является средством описания реальности: он создан не для описания, а для общения. Соответственно, и основная функция права заключается в регулировании, развитии и охране надлежащих социальных коммуникаций. Правовая реальность возникает как результат общения, что требует как минимум двух субъектов.
Таким образом, право интерсубъективно. Оно зависит от совокупности отношений двух и более субъектов, а также совокупности общих для них юридических фактов. Юридический текст в данном случае выполняет служебную функцию по обеспечению общего понимания сущностных признаков объектов права. В межсубъектных связях по поводу определенных благ рождается объективная реальность, которая утрачивает субъективность в процессе правоотношений, не предполагающих по определению своей индивидуальной замкнутости. Понимание интерсубъективности основано на представлении о реальности особого рода, объединяющей дескриптивные и прескриптивные элементы права. Это реальность, которая динамически развивается во взаимоотношениях нескольких субъектов.
С точки зрения позитивизма (нормативизма), юридический мир формируется прежде всего законами, санкционированными в установленном порядке. Д. Г. Демидов указывает на то, что правовая реальность делится на две составляющие: непосредственно массив юридических документов (федеральных и местных законов, актов государственных органов) и практика их применения[25]. Условно эти составляющие обозначаются понятием «правовое пространство».
Несмотря на то что нормативное измерение неизбежно пронизывает социальную действительность, говорить о тождественности правовой реальности и правового пространства не приходится. Препятствием к признанию совокупности законов основой правовой реальности является их внутренняя противоречивость и возможность нарушения базовых ценностных ориентиров при воплощении эссенциальных идей в нормативных актах. Законы не могут полноценно воссоздать реальность, объективно отразить фактически сложившиеся отношения, если обусловлены внеправовыми целями либо персональными мотивами. В этом контексте следует отделять неправовое ситуативное законодательство от справедливых норм, которые приоткрывают эссенциальные феномены права. Здесь признак объективности выступает на передний план, так как законодательство может зависеть от усмотрения чиновников, а право – явление объективное, неотделимое от сущностных характеристик регулируемых им отношений. Антиномия целеполагания в таких случаях может порождать неправовую (или даже антиправовую) реальность.
На основании изложенного представляется актуальным моделирование пятиуровневой структуры правовой реальности, которая включает в себя следующие элементы:
1) конституционные ценности и идеалы;
2) правовые принципы;
3) легальные нормы;
4) юридические отношения;
5) внутренние связи правовых феноменов.
Выбор указанных составляющих обусловлен восприятием правовой реальности как целого. Исходя из предложенного каталога ее элементов, можно дать следующее предварительное определение правовой реальности: это совокупность интерсубъективных феноменов, которые включают в себя правовые принципы, нормы, юридические факты, определяемые идеальными категориями (справедливость, равенство, свобода), а также их внутренние связи и закономерности развития.
1.2. Эссенциальные и феноменальные элементы правовой реальности
Предложенное выше определение приводит к тезису, который подлежит дальнейшему развитию: все элементы правовой реальности необходимо исследовать во взаимосвязи друг с другом. Однако перед объединением важно разрешить вопрос о том, можно ли разграничить элементы правовой реальности на те, что представляют собой базовые эйдосы, и те, что лишь отображают сущность (эссенцию) права, а, следовательно, содержат риски его искажения.
Аксиологический каталог первого этажа правовой реальности – это набор идеалов, имеющих ключевое значение для развития государства и общества. Как отмечает профессор Э. Баркер: «Прежде всяких законов законодатель должен в каждом конкретном случае прикрепить преамбулу, провозглашающую принципы, на которых законы базируются, и убеждающую граждан принять их повеления как логический результат принципов, в которые они верят»[26]. Это необходимо для обеспечения целостности и внутренней непротиворечивости всей правовой системы. Платон считает необходимым для благосклонного восприятия населением законов начинать их с преамбулы, которую он сравнивает с разминкой, облегчающей достижение цели, или вступлением музыкального произведения[27]. От того, насколько доходчивы, эстетичны и обоснованны правовые институты, зависит, будут ли они надлежащим образом приняты населением.
Уровни правовой реальности, связанные с бытийственными ценностями и принципами, всегда эссенциальны, а юридические факты – экзистенциальны. Следовательно, среди феноменов правовой реальности необходимо различать следующие:
1.Эссенциальные феномены, которые являют нам некую сущность, то есть дают доступное знание о реальности основных правовых идей и ценностей. В теории их восприятие человеком мало отличается от восприятия правил математики или законов геометрии, доступных независимо от места рождения и иных субъективных предпосылок. Несмотря на то, что эссенциальные правовые феномены могут быть ориентированы на предельно абстрактные ценности, вроде добра и справедливости, они имеют определяющее значение для прескриптивной правовой аксиологии, а также основ взаимодействия индивида с государством и обществом.
2.Торсионные (искаженные) феномены претендуют на собственную «сущность», но на деле искажают то, что в принципе должны являть. Иногда «торсионность» может быть неосознанным результатом идеологического предубеждения, иногда – результатом целенаправленной пропаганды или лоббирования интересов определенного круга выгодоприобретателей. В случае целенаправленной пропаганды генератор торсионного феномена сознательно производит его для внешних реципиентов, нередко на заказ. Он знает, что данный феномен является ложной конструкцией с минимальной опорой на реальные события.
3.Наиболее опасны и разрушительны с точки зрения объективного идеализма для правовой реальности фиктивные феномены. Яркими примерами фиктивных феноменов служат законы гитлеровской Германии о защите немецкой крови – легитимные по форме правовые акты по сути являлись антиправовыми, направленными на дискриминацию человека по расовым, политическим и религиозным признакам.
Признание объективных эйдосов основой всей структуры правовой реальности порождает вывод о том, что правовые институты и нормы не могут изучаться друг без друга ни генетически, ни телеологически. Любая модель правовой реальности неизбежно дополняется порядком взаимодействия между разными этажами юридического мира, вовлеченности базовых эйдосов права в экзистенциальное воплощение.
Соответственно, важным признаком правовой реальности будет ее супервентность на идейных, с одной стороны, и на социально-экономических предпосылках, с другой стороны.
Данный термин получил распространение в философии сознания за счет ряда публикаций Д. Дэвидсона[28], Дж. Кима[29], Д. Чалмерса, опровергающих методологический редукционизм. Супервентность – это отношение неизбежной детерминированности состояния одной сложной системы состоянием другой системы. Основу для определения супервентности Д. Чалмерс выразил в формуле: «Б-свойства супервентны на Α-свойствах, если невозможны две ситуации, тождественные в плане Α-свойств, но различные в их Б-свойствах»[30].
Как правило, исследователи обращаются к признаку супервентности при описании зависимости ментальных феноменов от физических оснований. Для юридической науки этот признак имеет значение при исследовании ряда сложных отношений детерминированности, способных объяснить многоступенчатую правовую супервентность: правосознание логически супервентно на правовой реальности; объекты правовой реальности супервентны на системе общественных отношений, а также на бытийственных идеях, заложенных в нормативных актах и т. д. Например, в призме логической или описательной супервентности по-новому может быть представлена проблема подобия правовых норм в разных национальных юрисдикциях. Так, специальные нормы по контролю за деятельностью монополий или институт регистрации объектов недвижимости распространены повсеместно, причем генезис этих норм внешне может быть связан с уникальными историческими и социально-политическими факторами.
Для принципа правовой супервентности свойственно отсутствие различий Б-фактов при тождестве А-фактов. Соответственно, можно привести следующие примеры супервентности:
1) формирование единой системы правовых ценностей в результате влияния общих социально-культурных предпосылок;
2) формирование схожей нормативной базы при формировании на основе общих идейных оснований;
3) отсутствие различий в структуре правоотношений при отсутствии различий в нормативной базе и в поведении субъектов.
Основная идея, на которой основаны в том числе приведенные выше примеры, состоит в том, что детерминированность какого-либо свойства А (либо группы свойств А) свойствами Б не означает, что свойства Б обладают свойствами А. Одновременно свойства А не редуцируются к свойствам Б. То есть правовые институты не обладают экономическими свойствами, в то же время экономический базис не может быть редуцирован до регулятивных юридических схем. При этом неоспоримость связей между А- и Б-фактами подтверждает актуальность экономического анализа права и других концепций, рассматривающих супервентность правовой реальности в свете когерентной взаимосвязи различных элементов.
Супервентность правовой реальности подлежит дальнейшей классификации в зависимости от целей и областей исследования. Если рассматривается юридический факт в правоотношении ad hoc, можно говорить о локальной супервентности. Если же речь идет о детерминированности целых правовых систем различными идейными или социально-экономическими предпосылками, то это глобальная супервентность. Подобное разделение будет иметь значение, например, при исследовании индивидуального и коллективного правосознания.
Также для фундаментальной юриспруденции важно разделение логической и естественной супервентности. Отличительный признак – возможность рационального построения того или иного Б-факта на основе А-факта. В логической супервентности содержится умозрительная возможность (представимость) реализации Б-факта на основе А-факта. Естественная супервентность предполагает анализ фактически сложившихся правовых институтов (Б-фактов) на основе реальных факторов.
Правовые институты (Б-факты) супервентны на определенных фактах (А-фактах) окружающего мира только в том случае, если Б-факты детерминированы А-фактами сходным образом, то есть Б-факты не могут иметь различия при тождестве А-фактов. При этом речь идет о «тождественности» в смысле неразличимости определенного класса понятий, а не об абсолютном тождестве, доведенном до предела, в котором А- и Б-факты неразличимы (не нумерическое тождество). Соответственно, если объектами гражданских правоотношений выступают два дома, то не имеют значения различия в цвете их стен, площади, форме крыши и т.п. (если они не влияют на правовой режим вещи). Для логической супервентности при определении тождества фактов важна сама причастность объектов правовой реальности к тому, что, по Платону, можно назвать эйдосом дома.
Супервентность правовой реальности в свете объективного идеализма противостоит методологическому редукционизму, который склонен признавать самостоятельный онтологический статус только за объектами физической реальности[31]. Идеалист изучает эйдос дома, в то время как материалист воспринимает дом через совокупность элементарных частиц, взаимодействующих согласно определенным физическим законам. Материалистический подход в юридической науке недостаточен, потому что без универсалий невозможно определить ряд сущностных категорий права. Сознание любого человека постоянно сталкивается с феноменами, которые нельзя свести к физическим понятиям: честь, достоинство, правовые идеалы, принципы. Все они необъяснимы исключительно через физические показатели.
1.3. Онтологический статус правовых институтов в свете объективного идеализма Платона
Внимание ученых на протяжении длительного времени занимает вопрос об онтологическом статусе правовых феноменов. Совокупность объективных вневременных идей за ними видели последователи Платона, И. Канта, Г. Когена, Р. Штаммлера, неокантианской школы философии права. Противники такого подхода приводили контрдоводы, связанные со скоротечностью и изменчивостью юридических отношений. Так, по мнению С. Л. Франка, право не имеет вневременного бытия, поскольку (в отличие от математических идей) возникает, длится и исчезает во времени[32]. Впрочем, выше рассматривались отличия правовой реальности (в основе которой находятся бытийственные ценности) от правового пространства (как совокупности нормативных актов).
Проблема объяснения правовой реальности связана с достоверностью определения правовых понятий. Все они в известной мере будут неточны. Каждый человек может по-разному понимать как объекты окружающего мира, так и правовые феномены. Недавний спор о феномене синего или белого платья[33] вновь обозначил актуальность вопросов философии сознания. Если такие простые квалиа, как цвета, вызывают неоднозначное восприятие, то как достичь единства мнений в понимании справедливости или блага? Кроме того, понимание юридических дефиниций, норм, принципов предполагает определенный интеллектуальный багаж знаний, наличие опыта правового взаимодействия с другими субъектами и т. п. В результате базовой проблемой остается отсутствие четких дефиниций у любых правовых феноменов.
Человеку проще использовать понятие «дом», если рассматривать его как абстракцию (то есть в определенном смысле эйдос дома), в то время как определение дома в качестве физического объекта будет постоянно неполным. Если определить дом как кирпичное квадратное строение, то результат не будет совершенным. Можно уточнить определение, добавив наличие фундамента, перекрытий, дверей определенной формы, но в любом случае этого будет недостаточно для описания дома Штиглица в Санкт-Петербурге или дома Кальвета в Барселоне. На практике довольно сложно сгруппировать все акциденции по определенным критериям настолько точно, чтобы это позволило субъектам правоотношения избежать неоднозначного понимания правовых феноменов.
Один из возможных вариантов ответа на вопрос «Как надлежащим образом конкретизировать явленность абстрактного для понимания сущности вещей?» дает теория эйдосов Платона. Предметы окружающего мира и феномены (будь то произведения искусства или государственно-правовые институты), по Платону, являются подобиями высших идей, а значит, последние будут целью развития для вещей и явлений, которые подвержены изменениям.
Саму теорию эйдосов в принципе можно свести к тривиальному вопросу: «Почему какая-то вещь является красивой?» Есть очевидный ответ: «Вещь является красивой из-за присутствия в ней красоты»[34]. В первом приближении может показаться, что подобный ответ является не более чем тривиальной тавтологией, которая не объясняет ничего нового. Однако субъективное восприятие красоты не делает вещь красивой в платоническом смысле.
Если к теории эйдосов Платона применить нормологическую пирамиду Г. Кельзена[35], то можно сказать, что прилагательное «красивая» черпает свою силу из существительного «красота» так же, как федеральный закон Российской Федерации черпает свою юридическую силу из Конституции Российской Федерации. Конституция – это не просто совокупность субъективных представлений о ней как о нормативном акте. Конституцию следует воспринимать как реально существующую категорию. Так же, как с красотой, субъективное восприятие конституционного акта не имеет смысла, если в нем не отражены высшие идеи (эйдосы) базовых категорий аксиологии и идеи самой конституции.
Так, объективный идеализм предполагает супервентность предметов окружающего мира, феноменов и иных составляющих реальности на объективных высших идеях. Соответственно, субъективное восприятие не определяет фиктивность или эссенциальность элементов правовой реальности, правовыми их делает объективный масштаб, то есть независимая от каких-либо мнений идея права.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Элиот Т. С. Бесплодная земля. Полые люди. Поэмы. Стихотворения. Пьесы. М.: Иностранка, 2019. С. 200.
2
Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1990–1994. Т. 3. С. 298.
3
Бродский И. Большая книга интервью / сост. В. Полухиной. М.: Захаров, 2000. С. 241.
4
Зиновина М. А. Теория права Аристотеля и греческое право IV века до н. э.: дис… канд. ист. наук. М., 1992.
5
См.: Крет О. В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ: дис… канд. филос. наук. Тамбов, 2007. С. 19.
6
См.: Малько А. В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления // Государство и право. 2001. № 5. С. 5—13.
7
См.: Берлявский Л. Г., Липчанская И. В. Правовая реальность как категория онтологии права // История государства и права. 2015. № 17. С. 38–43.
8
См.: Стовба А. В. Правовая ситуация как онтологическая основа правовой реальности: дис… канд. юрид. наук. Харьков, 2005; Гришина Л. В. Ценностное измерение правовой реальности: автореф. дис… канд. филос. наук. М., 2008.
9
См.: Белянская О. В. К вопросу о понимании правовой реальности // Актуальные проблемы государства и права. 2018. Т. 2. № 6. С. 5—15.
10
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2020 № 2197-О // СПС «КонсультантПлюс».
11
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2020 № 2597-О // СПС «КонсультантПлюс».
12
См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.1998 № 20-П // СПС «КонсультантПлюс».
13
Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 55.
14
См.: Аристотель. Метафизика // Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1 / ред. В. Ф. Асмус, З. Н. Микеладзе, И. Д. Рожанский, А. И. Доватур. М.: Мысль, 1976–1983. С. 65.
15
Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books, 1991. P. 13.
16
Chalmers D. Facing up to the problem of consciousness // Journal of Consciousness Studies. 1995. № 2 (3). P. 200–219.
17
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013.
18
См.: Гаджиев Г. А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности). М.: Норма, 2013. С. 10.
19
См.: Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 47.
20
См.: Веденеев Ю. А. Грамматика правопорядка М.: Проспект, 2018. С. 48.
21
См.: Честнов И. Л. Культуральная парадигма юридической науки как ответ на глобальный кризис права // Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего: XVII Международные Лихачевские научные чтения, 18–20 мая 2017 г. СПб.: СПбГУП, 2017. С. 549–551.
22
Savigny Fr. C. Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1840) // URL: https://www.gleichsatz.de/b-u-t/can/rec/savigny_beruf.html (дата обращения: 04.08.2023).
23
Иконникова Г. И., Лященко В. П. Основы философии права. М., 2007.
24
Веденеев Ю. А. Юридическая картина мира: между должным и сущим // Lex russica. 2014. № 6. С. 641–654.
25
Демидов Д. Г. Положения Конституции Российской Федерации в контексте правоприменения: к проблеме правовой реальности // Администратор суда. 2020. № 4. С. 43–47.
26
Barker E. Greek Political Theory. Plato and His Predecessor. London: Methuen, N. Y.: Barnes and Noble, 1960. P. 353.
27
Платон. Указ. соч. (Законы, 722d-e). Т. 4. С. 175.
28
Davidson D. Thinking causes // Mental Causation / Heil J., Mele A. R. (eds). Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 3—17.
29
Kim J. Concepts of supervenience // Philosophy and Phenomenological Research. 1984. № 45 (2). P. 153–176.
30
Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории / пер. с англ. В. В. Васильева. М.: УРСС; Книжный дом «Либроком», 2013. С. 55.
31
Лихтер П. Л. Супервентность правовой реальности: проблема онтологического статуса эссенциальных и феноменальных элементов // Журнал российского права. 2023. Т. 27. № 2. С. 20–32.
32
См.: Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 325.
33
Brainard D., Hulbert A. Colour Vision: Understanding #TheDress // Current Biology. 2015. № 25 (13). P. 551–554.
34
Fouillée A. La philosophie de Platon. T. 1: Théorie des idées et de l’amour. 2me éd. Paris: Hachette, 1888. P. 53.
35
Kelsen H. General Theory of Law and State (1945). New York: Russell and Russell, 1961.

